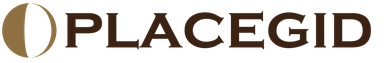Читать онлайн «Батюшковские рассказы. «Священники шутят» — подборка смешных и трогательных историй Рассказы батюшек читать онлайн
Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС Р15-501-0056
© ООО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015
* * *
Какая там «тихая пристань»! Здесь может быть только человек-творец, возжелавший внутри себя найти нетленную первооснову. Здесь «невидимая брань» и воинское дело духовного подвига.
Ф. Уделов. Монастырь и мир
Я не знаю, у кого из святых отцов архимандрит Зинон взял эти наставления в поучение одному из слишком беспечных, не по-монастырски вольнолюбивых послушников, но берегу писанный в подчеркнуто старой орфографии листок, чтобы, переступая порог монастыря, не нести туда «уличных» страстей. За этими стенами властвуют не наши честолюбивые кодексы и не наши бодрые добродетели.
«Монах есть тот, кто, будучи облечен в вещественное и бренное тело, подражает жизни и состоянию бесплотных».
«Монах есть всегдашнее понуждение естества и неослабное хранение чувств».
«Монах есть тот, кто, скорбя и болезнуя душою, всегда памятует и размышляет о смерти и во сне, и в бдении».
Даже и не ведая этих правил, мы переступаем порог монастыря с необъяснимым смятением и, несмотря на все бесстыдство многолетней атеистической пропаганды, особенно ожесточенной к монастырям, до первого живого столкновения с монашеской обителью чувствуем требовательную, укоряющую нас инакость этого быта, его нездешнюю строгость.
Казалось, мы уже навсегда отторжены от этого мира. Можно было читать Лескова или Достоевского (монастырские главы «Карамазовых» или «Бесов»), чеховского «Архиерея» или толстовского «Отца Сергия», но для недавнего советского слуха это была только «литература», только бесконечное прошедшее вроде крепостного права. И даже если вспомнить первые впечатления от посещения монастыря людьми моего поколения, вернувшимися в Церковь уже после тысячелетия Крещения Руси, то и они еще не один месяц будут тревожно неуверенными и волнующими, как выпадение из времени. Думаю, что это чувство смятения и неуверенности немногим отличается у новичков и сейчас. Разве что позднее, спустя годы, когда подлинно войдешь в Церковь не созерцателем, а исподволь опамятовавшимся и постепенно окрепшим православным (слава Богу, не потерявшим родовой памяти), начнешь почаще бывать в монастыре, входить в порядок его долгих служб, то так же понемногу, как бы само собой догадаешься, что настоящее-то время во всей полноте, во всей духовной выси этого понятия ощущается именно здесь. Здесь ты современник не суетному дню, а всем, кто стоял тут до тебя и будет стоять после, что сразу придает душе силы, а уму света.
И тут же словно сами собой начнут сходиться живые, необходимые книги, которые, кажется, только и ждали твоего духовного поспевания. А когда прозревает нация, то они приходят не к одному тебе, а и в общую современную культуру. И теперь уже не в одних монастырях можно прочесть и зайцевские воспоминания об Афоне и Валааме, и дивные, не знающие ни подобия в нашей литературе, ни продолжения книги И. Шмелева – его «Богомолье», его «Лето Господне», его «Старый Валаам». А там, глядишь, дойдет дело до книги Константина Леонтьева об оптинских днях Климента (Зедергольма) и до бесхитростной, чудно сердечной книги Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки», где Оптина предстанет во всей полноте внешне бедного, но духовно неисчерпаемого быта. Все, кто читал их, помнят святой воздух их доброты, их чистую ясность, их благоговение.
Ожесточенные, приученные коварством государства всякое слово принимать с осторожностью, а всякого ближнего только как товарища по работе, общественного союзника или противника, забывшие старинные русские обращения к незнакомым людям «матушка», «брат», «сестрица», мы еще долго стыдимся братской любви этих книг, их молитвенной, порою умиленной речи. И нет-нет еще покажется, что герои тех же шмелевских книг простоваты и будто даже оторваны от настоящей-то жизни, что-де и за польза в этих безусловных, не спрашивающих послушаниях? А между тем эти «немудрые» послушники собрали духовную Россию, и я не удержусь, чтобы не процитировать страницу из шмелевского «Старого Валаама», где он спустя годы узна́ет, как два мимолетных его монастырских знакомых были отправлены потом на послушание в Уссурийский край и основали там не только крепкую обитель, но и хорошее издательство, чьи святые книги и до родного Валаама доходили: «Крестьянские парни русские, пошли они с Валаама в далекий и дикий край и понесли Свет Христов. Сколько тягот и лишений приняли, жизни свои отдали Свету, стали историческими русскими подвижниками, продолжателями дела Святителей российских. И в этих подвигах и страданиях сохранили святое, среди мерзости духовного опустошения, какой же пример и сдержка для окружающих, ободрение и упование для алчущих и жаждущих Правды. Такими жива и будет жива Россия».
Она и впредь будет такими людьми жива. Сколько монахов сегодня несут послушание по дальним псковским приходам в стороне от дорог, неустанно трудясь, чтобы сохранить эти приходы в обезлюдевших селах и уберечь храм как последнюю опору, чтобы земля не осиротела совсем. Порою одних хозяйственных забот на их плечах больше, чем священнических, и к Богу-то они поневоле, как шутил печерский старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, «одним крылышком, но зато каждым перышком». И это они поднимают Вознесенский монастырь в Великих Луках, и Крыпецкий монастырь под Псковом, начиная опять с пустого и хорошо если не обесчещенного места, уповая только на неутомимые руки и молитву.
Да и в самой обители труда всегда не меньше, и он не легче. И я не о физической работе говорю, хотя и она, для монастырской кухни например, всегда начинается до света, когда келарь возжигает свечу у негасимой лампады над ракой основателя и несет огонь, чтобы разжечь печь для хлебов и просфор и тем подхватить послушание предшествующих столетий как одно, не подвластное времени дело, как одной Церкви понятное время «во веки веков» – словно та же просфора, один «хлеб Христов» ложился перед первым настоятелем и нынче служащим священником. А там скоро затеется работа на конюшне, в кузнице, в гараже, в мастерских. Но главным-то все-таки будет труд молитвы. Евангелие нас всех предупреждает, что «Царствие Небесное нудится» (Мф. 11: 12), достигается непрестанным усилием, не дающим расслабиться трудом, но мы умеем пропустить это мимо ушей, слишком прямолинейно поняв слова Спасителя «Бремя Мое легко есть» (Мф. 11: 30), – а оно «легко» до креста на Голгофе; и монах помнит это за себя и за нас постоянно вместе с мыслью о смерти.
И всюду – при всей тяжести послушания, в коровнике, в лазарете, в кузнице – это труд благодатный, неуловимо отличный от работы в миру. В молитве ли разгадка (а с нее начинается всякое монастырское послушание), в постоянном ли предстоянии перед Богом, но тут каждое занятие чисто и важно душе, словно труду возвращается первоначальная святость, и всякое дело незазорно, и все равны перед Божьим порядком мира.
…Но это я уж с «середины» начинаю. Словно книжка уже написана и не хватает одного вступления, а между тем дорога этого текста была долгой. Не было никакой книжки, а была сначала просто жизнь. Дневник же завелся даже как будто просто исподволь, словно сам собой родился (никак не найду его отчетливого начала), только когда судьба свела меня с иеромонахом, игуменом, а там и архимандритом отцом Зиноном, его мыслью, его непрестанным напряжением, которое, очевидно, происходило от самой его «профессии», его небесного дара иконописца. Не зря Евгений Трубецкой звал икону «умозрением в красках». Образ – это молитва и мирознание, богословие и философия, литургия и искусство в непрестанном взаимопроникновении. Конечно, мне все было ново и мало было услышать. Хотелось записать, удержать, обдумать. А потом уже бежать к друзьям и духовным детям отца Зинона, скорее усадить их за стол: «Послушайте! Батюшка сказал…» И думать вместе и радоваться, что он меж нами, и вместе с ними расти душой.
Пожалуй, больше для них и писал – для Валерия Ивановича Ледина, который одно время был старостой Троицкого собора (в пору, когда отец Зинон писал там Серафимовский иконостас) и в доме которого мы и виделись с отцом Зиноном. А уж потом мы часто виделись и говорили с отцом Зиноном и в самом этом Серафимовском храме, где в конце дня служили вечерню, или в звоннице собора, где отец Зинон во время этой псковской работы и жил. Позднее Валерий Иванович стал монахом Иоанном. Писал я свой дневник и для музейщицы Ираиды Городецкой, которая тоже через несколько лет станет монахиней. Они уходили за отцом Зиноном, с годами постигая через него полноту и красоту Церкви. Теперь их обоих давно нет на белом свете. Писал для поэта Артемия Тасалова, архитектора Сергея Михайлова, для Михаила Ивановича Семенова и Саввы Васильича Ямщикова.
Мне было трудно носить это счастье слышания и понимания каждый день нового мира одному. Тем более время-то – вспомните-ка! Только-только Россия отпраздновала тысячелетие Крещения, прожив семьдесят лет в «одичании умственной совести», как звал это состояние отец Георгий Флоровский. И сама-то Церковь только приходила в себя. До книжного моря в храмах было еще далеко. Это сейчас зайди в церковную лавку – и растеряешься: тысячи книг предлагают тысячу способов спасения – прочти и прямиком в Царствие Небесное! А тогда еще опытом надо было брать, вглядыванием и вслушиванием. Да и монастырь ведь! Приходской опыт тут помогает мало.
Ну и, конечно, прежде всего само явление! Кто знал и знает отца Зинона, тем ничего объяснять не надо. А кто не знал, надеюсь, даже и по моим захлебывающимся записям увидит, отчего я был нетерпелив в своих заметках.
Этим записям с первой страницы уже двадцать пять лет. И я и правда думать не думал об их публикации. А вот теперь, когда моя жизнь даже не идет, а летит к закату, вдруг вижу, что это уже как будто и не частная, не только моя и моих друзей история, а просто история нашего общего мечущегося тогда русского самосознания на пороге возрождения Церкви. И история живая, потому что писана не отвлеченным умом, а живым переживанием. Кипящие в ней вопросы сегодня в большинстве загнаны внутрь, но так и не разрешены. Ну, значит, не грех повторить их снова.
На минуту смутишься: не сор ли это из избы? Не вода ли на мельницу злых умов, которые ждут не дождутся повода к иронии, а то и к ученому сопротивлению. А только отразившиеся тут споры – свидетельство не сомнения и тем более не разрушения, а отражение искреннего нетерпения молодой веры, для которой Новый Завет никогда не станет Ветхим, а Христос будет приходить с каждым новым человеческим сердцем все тем же вопрошателем, несущим не мир, но меч в каждое неравнодушное сознание. Ведь «Путь, Истина и Жизнь» – это не последовательные ступени обретения покоя, а всегда прежде всего Путь и только тогда Истина и Жизнь. А как успокоился, как показалось, что «нашел», так уж жди, что и вокруг все выцветет и помертвеет.
А самое тревожное, что монастырь-то – вот он! Знаменитый, на всю Россию известный. И «герои» в большинстве еще спасаются там и тем спасают и нас. Вначале думал переименовать и саму обитель, и «героев» – как-то безопаснее. Назову, скажем, «Где-то в России» и тем и «типичности» прибавлю, и себя загорожу от неизбежного церковного гнева. А оказалось, что литературой тут не возьмешь. Сразу ряженьем начинает отдавать, игрой. И все вроде то, да не то. Все мы видим мир по-своему, и каждый из «героев» скажет, что все было не так, и не узна́ет себя. Но мы ведь все с вами – только система зеркал, и нас столько, сколько людей нас видят. Все мы заложники чужого взгляда.
Это осколки моего зеркала, и что в нем отразилось, то отразилось в силу моего зрения и разумения. И это ведь не портреты насельников монастыря, отцов и владык и моих товарищей. Это в известной и даже в большей степени автопортрет моей души, моего понимания мира, моей веры и моего неверия. А история и состоит из миллионов «я», каждое из которых буквой ли, запятой, междустрочным пространством говорит свою часть мирового текста. С тем и войду в невозвратную воду давних монастырских лет. А первую запись возьму из «прежней жизни», когда еще и дневника не было, и не было в моей судьбе отца Зинона, а было первое настоящее удивление и первое переживание главного монастырского праздника. Я приехал тогда в гости к живущему на хуторе недалеко от монастыря прекрасному эстонскому художнику Николаю Ивановичу Кормашову, чтобы написать о нем. И раз уж дело было накануне Успения, то, конечно, сначала в монастырь.
До тысячелетия Крещения еще был целый год.
Изборские инструменталисты вооружают свои гитары (свет, усилители) на городской площади – удерживать молодежь. Как у нас в соседстве с Троицким собором перед Пасхой: непременно кинотеатр «Октябрь» работает до утра и норовит показать самое «заманчивое» – какую-нибудь «Королеву Шантеклера», «Анжелику – маркизу ангелов», а то и «Фантомаса» – остановить молодой поток, который потом все равно в собор милицейский кордон не пустит.
Вот и тут ставят музыкальную ловушку. А народ течет мимо – к монастырю. Я пришел как раз во время крестного хода, когда образ выходил из проема Никольских ворот к Михайловскому собору. Цепи мужчин сдерживали теснящуюся толпу. Уже горело много свечей. Образ установили на паперти между колонн, разделив монашеский и мирской хоры. Сотни свечей в ящиках все пополнялись, свечи текли по плечам к празднику. Там крепкий старик в застиранной рясе – не монашеского, а крестьянского ухватистого вида – брал их десятка по два и, сбив фитилями в одну сторону, обжигал, медленно поворачивая, оплавлял, чтобы потом фитили вспыхивали ровно и без труда, и, так приготовив, тушил и опять клал до срока в ящик. Дети толпились на ступенях и весело глядели вниз, где плыла река свечей в руках молящихся. Младенцы спали на руках и в колясках. Уставшие приседали кто где прямо на траву. Зажглись прожектора, и акафист пели уже при совершенной ночи.
Помазание, как обычно, повлекло народ к главному образу, но потом нетерпеливые разошлись к другим иконам в разных местах двора, приложились и были помазаны там. А у чудотворного Успенского всё шли и шли по тесному переходу взявшихся за руки монахов и прихожан и крепкие, и хворые. Отец почти на себе тащил скрюченного полиомиелитного сына, чтобы тот мог приложиться, и потом так же обратно нес на себе, и лицо было спокойно, привычно к муке и беде. Одержимая баба высоко и не людским каким-то голосом звала Зину, потом кричала невнятно. Ее успокаивали и отводили от образа. Шествию не было конца. И кто-то уже устраивался в поредевшем дворе ночевать прямо на травяном (цветы разобрали верующие) пути Богородицы. Я поставил остаток свечи к другим, пылавшим на ограде Никольской церкви, и спустился на «кровавый путь». Там над Николой в Богородичном ряду тоже пылали сотни свечей, и бабушка, глядевшая за ними, все спрашивала: «Ну где фотограф-то? Обещал снять меня, я готовая». Из тьмы проем был светел и тепел, по-домашнему уютен и праздничен. Расходились уже под звездами, весело, в чаянии завтрашнего дня.
Чуть сеется мелкий дождь, но служба у образа (теперь он стоит рядом с собором, внизу) продолжается непрерывно. В Михайловском соборе ждут владыку. Я пробиваюсь поближе и тоже жду, волнуясь. Наконец ровно в десять двери отворяются, и он, в митрополичьем плаще и скуфье, выходит под гром хора «Исполла эти, деспота!». После благословения начинается чудо облачения – вон с себя дорожное платье до белой светящейся, текущей до пят рубахи, и все вновь: изящество, сила, покойная красота, значительность обряда, где всему – поручам, поясу, епитрахили, набедреннику, митре, даже, кажется, большому гребню – возвращается первоначальная иерархическая и метафизическая значительность. Молодые иподьяконы легки и бесшумны, движения владыки безупречны, хор высоко и сильно именует символы, молитвословные знаки каждого предмета. Владыка служит опрятно, ценя музыку жеста и голоса, текста и смысла, а наместник архимандрит Гавриил – тот грубо и просто, как командует носильщиками на вокзале, зато отец Иоанн Крестьянкин даже, кажется, и не служит, а живет готовно-весело, с сердечной деревенской любящей простотой.
Я выхожу во двор. Богородица возвращается к Успенскому собору. Дорожка опять свежа и убрана цветами, и народ почтительно стоит по сторонам, но, когда икону берут на плечи и она поворачивается лицом к пути, люди не выдерживают и кидаются на дорожку, чтобы подойти под образ. Девушки, готовившие путь, мечутся и просят сойти («Это не для вас, это – для Богородицы»), но их уже никто не слышит. Теперь это первое – подойти под образ. Я встаю вместе со старушками (монах впереди командует: «По четыре, по четыре в ряд!») и с неясной тревогой гляжу, как образ медленно плывет на меня. Мужикам тяжело, толпа теснит их и сбоку и спереди, тем более что каждый, подходя под образ, норовит поднятой рукой коснуться стекла, как ризы Богородицы, и тем тормозит ход. Тесно, глухо, тревожно внутри. Я тоже касаюсь стекла и думаю о Викторе Петровиче и Марии Астафьевых (оба болеют): «Помоги, Пресвятая Владычица». Образ проходит и останавливается у кованой иконы Корнилия. Скоро выходят из собора духовенство и молящиеся и тоже идут к образу, чтобы потом уже двинуться к Успенской церкви, где служба продолжается. Опять акафист, и колокола гремят весело, слаженно, все сразу, покрывая пение хора во всю службу, опять внятно и нежно, как молитвенное восклицание «Вот я, Господи!», заливают монастырь, свечи потрескивают от мелкого дождливого сева.
А это уже после празднования тысячелетия Крещения.
Остановился в келье игумена Зинона. Потом ладили чай в его серебряном чудном самоваре, какого и у Семена Гейченко нет. Отец Зинон показывал свои келейные иконы, выхваченные у наместника Гавриила с грузовика, – «в дрова отправляли». Среди них иконы XVI–XVII веков, замечательный походный алтарь-складень, «Неопалимая Купина», деисусный «Златоуст и Василий Великий».
– Гавриил вообще человек для жития: клубнику запретил пропалывать, чтобы братия в грядки не ходила, траву тут не косил, и все пошло дичать, яблони подреза́л в цвету, и вот – ни одного яблочка. Колера при ремонтах все сам составлял. Поглядите вон: синий, оранжевый, желтый – все бьют по глазам! Деревьев поубирал тьму, и вот эти у колодца были обречены – не успел. А камень покрашен зеленым, чтобы паломники не кололи на молитвенную память, – сразу будет заметно, и можно обличить. Говорят, тут первые насельники молились.
Вышла было луна, высыпали звезды, проплыл спутник, но скоро потянул сильный ветер, и все затмилось. В братском корпусе идет спевка хора, перекрывающая ветер. Лист, на мгновение притворившись живым, метнется по дорожке, увлекая взгляд, но, только его увидишь, он опять недвижим (последние забавы осеннего ветра).
Проспал раннюю обедню в Успенском храме, да и отец Зинон не советует: бесноватые помолиться не дадут. Пошли с ним в Никольский храм, а там к соседнему Корнилию и в Покровскую церковь… Тут всё еще в начале: варианты фресок пробуются прямо на стенах, тут и там лики воинов, святых, Архангелов – как наброски на полях или бессознательно начерченные рукой портреты на чистом листе, пока мысль занята другим, – проба пера.
Были и еще приезды, но пока еще больше глядел, и рука не тянулась к перу. А жалко – там проклевывался настоящий росток, и всё потом виделось бы вернее, но кто же из нас вдаль заглядывает? Живешь и живешь. Слава Богу, потом уже с тетрадью не расставался.
Приехал в Печоры в начале второго. Дверь в мастерскую закрыта. День разгулялся, солнце, ветер, весна. Пришел батюшка. Едва я устроился, явились славильщики и густо, как городовые на картинах Перова или Маковского, спели «Рождество» и «Дева днесь». Пока они кричали, батюшка торопливо перерывал стол, потом сунул по десятке в конверты и вынес с благословением. Потом я разбирал книги, привезенные Олесей Николаевой, – весь Шмеман, архимандрит Киприан, Николай Афанасьев, Константин Леонтьев. И пока я смотрел, по дому всё шли, говорили, спрашивали…
Скоро и вечер. Пели вечерню в келье с Алешей и Кликушей, потом сели за ужин «без утешения». А стоило отобедать – явилось и «утешение»: пришли отцы Анастасий (келарь) и Таврион (библиотекарь) с коньяком, шампанским, икрой и «царской селедкой» – форелью в банке. Рождество – как без «утешения»? Говорили о русском пьянстве (о чем же еще за коньяком-то?), писателях Шапошникове, Честнякове. Отец Таврион – костромич и в прошлом журналист, вот и разговор о писателях да костромских гениях.
Подъехал архитектор Александр Сёмочкин. Он будет строить на Святой горе храм Всех Печерских святых. Заспорили о Шмемане. Отец Таврион, как кажется, против шмемановских литургических правил и, улыбаясь, говорит, что вот живущий по Шмеману молодой костромской священник решил применить на практике его евхаристические требования (причащение за каждой литургией всех молящихся), но кончилось все общими ссорами, а сам батюшка как-то по дороге из храма домой пал и чуть не помер. Хорошо, его нашли чуть живого случайные бабушки и привезли на санках.
Отец Зинон:
– А не надо быть дураком и сразу кидаться в переделку, тем более с нашими бабушками.
Послушник Алеша, все время натыкаясь на что-нибудь интересное (а ему пока все интересно – от неожиданного образа, красивой книги, хоть закладки), восклицает:
– Ух ты! Батюшка, а мне дашь?
– Чего тебе? Чего тебе? Молчи! На, больше не проси! – сердито по виду, но внутренне нежно бормочет отец Зинон.
А Сашка Кликуша – тот все хочет быть умнее и расторопнее себя. И смеется, когда говорят простое: «Эх ты, как я не догадался?» – и, смеясь и радуясь, рассказывает о Кипре и Америке, где мальчиком жил с родителями при посольстве, а потом искал правду до двадцати одного года, был уже и наркоманом, и к буддистам ходил, а вот победила наша Церковь – такая открылась ему сила в обряде, даже в самом только виде кремлевских храмов («это тебе не баптистские пустяки, это – серьезно»). И вот четыре года в монастыре, помирил и повенчал уже почти разошедшихся родителей, которые снова обрели друг друга.
– Нет, батюшка, я не подвижник, чтобы спать шесть часов, я не приду на утреню, тем более потом мне на раннюю литургию идти. Нет, мне надо восемь часов спать, не меньше.
– Совсем с ума сошел. Куда тебе столько? Остальной ум заспишь. Не будет с тебя толку. Вставай давай, читай повечерие.
Горит лампада, давно ночь, звезды глядят в окно. Свет свечей колеблется на ликах Эммануила, Богородицы, Иоанна Богослова. Я шепчу Сёмочкину: «Как трудно, Господи!» И он понимает, о чем я: «Да, и мне тут так хорошо, никуда бы и не уезжал». Для таких дней и этого покоя живет человек. А потом как?
Сплю я на печке, проворочался до начала четвертого. Встаем. Батюшка как лег с другой стороны печи, так, кажется, и не поворотился ни разу:
– Как спали?
А что мне сказать? Полено под головой еще не по моим подвигам; скимни рыкающие, скнипы и песии мухи – вот и все видения.
– Ах ты, горе какое. Теперь и не уснете – у меня днем проходной двор.
Приходят Алеша, Саша – начинаем утреню до половины седьмого, и по окончании, видя, что мне уж и не уснуть, отец Зинон сыпет подарки – пластинку старообрядцев, крест Кирилла Шейкмана, дивный том «Искусство 1000-летия», лампаду, отлитую Георгием по древним образцам. К восьми приходит Олеся Николаева, и под их воркотню я все-таки на час задремал. Потом сидим с Олесей и Сашей Сёмочкиным. Она рассказывает о Париже, о смерти Даниэля, о приезде Синявского, о дикой тяжести московской жизни. Спрашивает у Сёмочкина: что делать, куда идти, на что надеяться?
Александр свое: что писал Горбачеву, что зеленая и с Богом земля дороже мертвой и с бесом. И тут же чертит программу: земля крестьянам, очищение природы, расселение из супергородов, народные центры вместо навязываемых американцами Диснейлендов. Бог знает отчего (не от слишком ли жесткого пересказа?) мне в идее мнятся русские художественные резервации сродни индейским: хочет добра, а выглядит странно.
Смотрю библиотеку игумена Тавриона. Он тоже склоняет меня от «беллетристики» к пересказу житий, к защите Печерской обители от обвинений в сотрудничестве с немцами:
– Ведь здесь в пещерах стоял наш передатчик, и отсюда работал разведчик, который еще жив, в Москве, и был тут недавно.
Читаю Константина Леонтьева «Отец Климент Зедергольм» и радуюсь, как там дивно о Хомякове: «Разговаривал он с безбожником или иноверцем, он был вполне православный, но начинал беседовать с православным, то как только тот два раза подряд сказал ему „да“, Хомякову уже становилось скучно и ему хотелось сказать: „Нет, нет, совсем не так“».
Какая русская черта! И что-то тут мелькает от батюшки.
…Оказывается, в великопостной молитве «Господи и Владыко живота моего» у греков следует: «дух праздности, любопытства, уныния не даждь ми» и т. д. У греков указывается на источник – любопытство, у нас предпочли указать на результат, говоря о «любоначалии и празднословии».
Отец Зинон:
– На самом деле в этой молитве еще больше разночтений. У старообрядцев в следованной псалтыри «дух праздности, небрежения, празднословия и сребролюбия отжени от меня», а не «не даждь мне», как у нас. Разве может Бог давать праздность и уныние? Я всегда читаю «отжени».
Вечером сидели за чаем с отцом Зиноном и Сёмочкиным. Было хорошо и особенно уютно под страшно разгулявшийся ветер.
Спал опять плохо и мало – все неловко, боюсь разбудить своей возней. Тем более батюшка сказал, что голова не варит, простужено горло, и он лучше сейчас приляжет, а встанет пораньше, но чтобы я не вставал, а слушал утреню «по немощи» лежа, раз вчера не спал. Я вздремнул и встал около двух, читал. В три встали на утреню. Алеша спит стоя и на кафизмах норовит привалиться на бочок, пока батюшка с гневом не оборачивается. На псалмах язык у Алеши заплетается, и он читает все тише, пока не говорит: «Тебе подобает пень Богу!» Батюшка, не поворачиваясь:
– Во-во, пень. Пень ты и есть. Спит он тут. Вот скажу благочинному, чтобы прислал пономаря, а ты спи – зачем ты мне такой нужен! Вот горе-то.
В начале седьмого они уходят служить литургию под батюшкино ворчание в Лазаревский храм. А я приваливаюсь на лежанку и забываю, что под головой полено, до девяти часов. Потом опять читаю Леонтьева (как он современен в препирательствах с отцом Климентом о католичестве, свободе веры, интеллигентности). Текст попал словно в развитие вчерашних вопросов рыжего помощника отца Зинона, Вадима, к батюшке о границах православия. И о том, можно ли причащаться у католиков и старообрядцев, и как быть с интеллигентностью. Поэтому я кричу из-за печи: «Ва-ди-им, вы слышите? Это про нас!» Вадим смеется: слышу, слышу.
– Всякая страсть подлежит искоренению, либо свободной волей здесь, либо мытарством – там. Бог никого наказывать не будет – сами пройдем должный путь. Это все прописи. Их скучно слышать. Даже священникам уже скучно читать Евангелие. Им тоже надобно что-нибудь «для чесания уха», как писалось в славянских книгах. А Истина все равно остается только в неисчерпаемой Книге, и она постигается терпением. А мы ищем йоги и буддизма, чтобы плоды были тотчас, мимо тяжелого естественного пути.
…Рублев – автор «Троицы» в том смысле, что он освободил пространство перед трапезой, чтобы всякий из нас мог становится собеседником Ангелов. Поэтому нет ни Сарры, ни Авраама, ни быта, а есть Откровение и беседа… Это было высокое богословское прозрение, а не художественное решение. Поэтому он мог подписать икону.
…Небосвод медленно идет по кругу. С вечера стоявшее в кроне дуба созвездие Медведицы утром ушло к оврагу, и в кроне поселилась Северная Корона. Луна заметно прибавилась, и батюшка в который раз вспомнил, что надо бы слазить на чердак за телескопом. Когда звонят к вечерне, первая звезда дрожит от звона и сама звенит чисто и ясно.
– К XX веку икона почти умерла. Воцарился академик Фартусов с его мертвыми прорисями. Когда забывает себя вера, забывает себя и икона, и даже зорким умам византийская школа уже кажется дикой и варварской. Ложная красота вытесняет живую аскетику. Греки окружали икону на службе и славили и величали ее без нашей нынешней резвости. Мы и сейчас кадим ее с четырех сторон, но уже не помним смысла – что мы тут не картине и символу предстоим, а Богу в непостижимой полноте, свидетельству служим, Евангельскому слову кланяемся.
Старухи говорят: «Чему вы нас учите? Мы вот и шестьдесят лет назад молились, а таких икон не было. В старину было иначе». И для них их старина уже единственная, а подлинную они не узнаю́т, как не узнаю́т в унисонном пении древность, более почтенную, чем воспоминания их детства.
…Епископы – серьезное испытание для Церкви. Когда умирает их учительность и вместо живой иерархии и умного порядка молитвы в епископе является только дисциплина, только буква, то народ начинает искать правду в юродивых, домашних прозорливцах – в самодеятельности.
Читал митрополита Антония (Блума). Какие у него замечательные примеры из Григория Сковороды, что нужное не сложно, а сложное – не нужно. И как чудно верна смешная для нашего слуха, но глубоко верная для духа Церкви подслушанная однажды владыкой рекомендация африканского священника, когда он представлял своей черной общине белого миссионера: «Не смотрите, что он бел, как бес, зато душа у него черная, как у нас».
Девяностолетний отец Николай внимательно глядит во время канона в Лазаревском храме на отца Зинона, пытается уловить смысл и не может, и забывает руку в начале крестного знамения. Или в середине его. Плачет в унисон – «шестым гласом».
Отец Анания докладывает о готовности к службе, прикладывая руку к скуфье – старый вояка. И все жалуется на боль в желудке: раньше пять бутылок кагора выпивал – и ничего, а теперь в восемьдесят лет полбутылки – и уже маюсь. С чего бы это?
Вернулись в келью и тут же, словно намолчались, заговорили сразу и обо всем.
– Да кто будет принимать эконома всерьез, когда он может залезть на поленницу и дразнить оттуда быка! Дети. А вернется Гавриил, этому бедному эконому непоздоровится за то, что слишком быстро переметнулся к владыке Владимиру.
И славит, славит любимого Диогена Синопского за разумность суждений и за близкую сердцу независимость. Хоть вот за это: когда Александр Македонский пригласил Диогена к себе, тот ответил, что от Синопа до Македонии ровно столько же, сколько от Македонии до Синопа: может, самому Александру нетрудно прийти, раз есть нужда. Умному Александру достало разума сказать, что если бы он не был Александром, он был бы Диогеном.
Замечательная подборка трогательных и забавных историй из жизни священников, собранная на просторах интернета.
17 глава от Марка
Однажды, закончив службу, священник сказал: «В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чём пойдёт речь, прочитайте перед этим дома семнадцатую главу Евангелия от Марка». В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил: «Прошу тех, кто выполнил задание и прочёл семнадцатую главу, поднять руки». Почти все прихожане подняли руки. «Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, - сказал батюшка. - В Евангелии от Марка нет семнадцатой главы».
Сказочное паломничество
Однажды, во время паломничества в Оптину пустынь, знаменитый мужской монастырь, послушники наблюдали следующую картину. К отцу Венедикту, игумену Оптиной, подходит маленький мальчик: он приехал с семьей и хочет взять благословение у отца игумена. Между ними происходит такой диалог:
Здравствуйте, отец Вени… Вини… (не может выговорить имя).
А тот его ласково хлопает по плечу и говорит:
Привет, Пятачок!
«Горько!»
Однажды в университетском домовом храме проходило венчание молодой пары. Как и положено, после венчания была организована трапеза, куда пригласили настоятеля, прихожан храма и друзей-однокурсников новобрачных.
Невеста очень волновалась и, краснея, заранее предупредила всех друзей: ни в коем случае не кричать во время праздничного обеда «Горько!». Уговаривала, увещевала, заклинала - мол, неприлично в храме целоваться. Друзья в ответ смеялись, подтрунивали, но в итоге согласились.
И вот, настал момент, когда началось праздничное застолье. Первый тост поднял настоятель. Пожелав счастливой паре многая и благая лета, громогласно выдал: «Го-о-орько!». Последовал взрыв смеха, пунцовой невесте ничего не оставалось, как поцеловать своего еле сдерживающего смех мужа. Над этой историей еще долго по-доброму смеялись.
На прием к Архангелу
Из рассказа священника: Был в моей церковной жизни такой случай. Однажды, в мою бытность диаконом в иконную лавку нашего монастыря, который расположился неподалеку от епархии, обратился мужчина в строгом костюме с кожаной папкой в руках. Продавщица, завидев меня, указала на солидного господина, который, по всей видимости, пришел с важной миссией.
Извините, как я могу попасть на прием к архангелу Гавриилу? - спросил визитер, не моргнув глазом.
Только представьте мое состояние! Еле сдерживая смех, я думал как бы поделикатнее ответить высокопоставленному человеку, что при жизни архангел являлся немногим, поэтому простому смертному, чтобы попасть к нему на прием, требуется как минимум умереть. Но, справившись с соблазном, проводил его к дверям управляющего Благовещенской епархии - архиепископа Гавриила.
Мне сразу стало понятно, что у бедного чиновника, по всей видимости, смиксовались регалии и имя владыки с надписью на церкви «Храм в честь святого Архангела Гавриила и прочих Сил Небесных».
Благословение «Медведя»
Однажды, в зимнюю пору молодые послушники одного из благовещенских приходов потянулись в трапезную на ужин. Смеркалось. Вдруг один из них услышал подозрительный скрип снега под забором. Тяжелые шаги кого-то очень большого медленно приближались.
Послушник насторожился, поскольку в число его послушаний входили и охранные функции. Смотрит, а над верхним краем глухого забора показалась большая мохнатая шапка и поравнялась с калиткой, запертой на замок. Кто-то с той стороны с силой рванул калитку, но она не поддалась.
Что там за медведь такой ломится?! - для острастки прикрикнул испуганный послушник. В ответ из-под большой мохнатой шапки кто-то натужно крякнул и отправился восвояси, поскрипывая огромными ногами по свежевыпавшему снегу.
Спустя короткое время в храме прихода приключилась архиерейская служба. На Всенощном бдении в положенное время все священники и алтарники двинулись вереницей на благословение правящего архиерея. Подошел к нему, не забыв сложить ладошки лодочкой, и тот послушник, выдавив: «Благословите, владыка».
Архиепископ Гаврил сурово взглянул на него из-под насупленных бровей и сквозь водопадообразные усы бросил: «Медведь тебя благословит!».
Многая лета
Многолетие, начинающееся со слов «Многая лета» - это торжественное песнопение в православной Церкви, форма пожелания долгих лет жизни и благополучия, очень часто поется во время трапезы с целью поздравить кого-либо с праздничным событием. Один иностранец, присутствуя при подобном поздравлении, спросил батюшку:
«Откройте мне секрет, почему когда вы наливаете бокал, встаете и поете «Много ли это?».
Короткая исповедь
Из рассказа одной прихожанки: Бабушка перед исповедью протискивается: «Пропустите меня без очереди, у меня всего 2 греха».
Православные атеисты
Из рассказа священника: Забуксовала машина. Зима. Смотрю: мужички неподалеку стоят. Выхожу, прошу помочь. Они: «Нет, батюшка, не поможем. Мы же атеисты». «А какие, - говорю, - атеисты? Ведь атеисты разные бывают. Есть атеисты-буддисты, есть атеисты-мусульмане». Они в ответ: «Нет, что вы, батюшка, мы православные атеисты!». В результате помогли, конечно.
Поп-звезда
Один знакомый батюшка рассказал: «Знаете, как у нас называют священников, которые активно раздают интервью, ведут блоги, показываются на ТВ? Поп-звезда!»
Монастырская собака Баскервилей
Поехал как-то отец Андрей в Оптину пустынь. Первый раз. Добрался до Калуги, оттуда - до Козельска, перешел по мосту через речку Жиздру и пешочком через лес направился к монастырю. Неожиданно быстро стемнело. Дорога шла в горку, по обочинам - высокий сосновый лес, сверху звездное небо. Идет он по сумеречному тоннелю, дивясь красоте Божией.
Темнота постепенно сгущалась, и стал нападать на него страх. И вдруг видит: летит ему навстречу то ли небольшая лошадь, то ли огромная собака с горящими очами. От ужаса отец Андрей остолбенел и потерял дар речи! Броситься ли в кювет? Так ведь все равно загрызет, вон какая! Залезть на дерево? Не успею (отец Андрей очень высокий и грузный).
Расстояние катастрофически сокращалось, и времени на раздумья больше не было. Повинуясь какому-то животному инстинкту самосохранения, отец Андрей раскинул руки в стороны и с диким криком «А-а-а!» в огромной развевающейся черной рясе сам кинулся на приближающееся чудище…
Мимо него на огромной скорости с выпученными от ужаса глазами промчался велосипедист.
«Батя, помолись!»
Когда батюшка Никифор был еще начинающим священником, поставили его на сорокоуст («курс молодого бойца» для новоявленных пастырей - 40 богослужений в ежедневном режиме). Руководителем «практики» был назначен отец Вениамин (назовем его так). Седовласый пастырь, принявший благодать священства еще в те времена, когда за это если не убивали, то создавали множество проблем - от сумы и до тюрьмы.
Прихожане батюшку величали знатным церковным неологизмом «сурово-добрый». Непримиримо суровый ко греху и бесконечно добрый к грешнику. И даже когда на исповеди отец Вениамин, качая головой, стучал по шее или лбу заплутавшего чада, глаза его светились подлинной любовью и добротой.
Промысел Божий управил так, что, как только отец Никифор заступил на «пастырскую вахту», его матушка отправилась в роддом пополнять и без того многочисленное семейство.
Батюшка Вениамин неспешно, с чувством полного благоговения, правил службу. Сослужащий отец Никифор был крайне рассеян. Мысли налетали одна на другую: «Как там роды? Как ребенок? Как матушка?».
В конце Литургии оглашенных (одна из составных частей Божественной Литургии) пришло смс от супруги: «С малышом очень плохо, унесли в реанимацию. Может не выжить. Молись!».
В панике иерей Никифор ухватился за рясу отца Вениамина и начал трясти: «Батя, помолись, ребенок умирает! Батя!!!». Митра на голове уважаемого пастыря зашаталась. Батюшка Вениамин, не поведя и глазом, выбрался из медвежьих лап отца Никифора, поправил митру и спокойно произнес: «Никифор, не паникуй! Сейчас помолимся».
И в нарушение всех церковных канонов остановил Литургию, отлистал назад служебник и возгласил молитву на всякое прошение, помянув своего подопечного, его матушку и родившееся чадо. На последних словах молитвы мобильник отца Никифора снова завибрировал: «Малыша принесли обратно. Полностью здоров. Что с ним было, врачи не знают».
Отец Вениамин с улыбкой посмотрел на остолбеневшего собрата и пошел по второму кругу заканчивать Литургию оглашенных. Надо сказать, что я не знаю в епархии более строгого блюстителя Устава, чем отец Вениамин. Вы спросите: как же так, такой строгий - и так легко каноны нарушает? В ответ лишь напомню слова Господа: «суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк 2:27).
Точно пить не будешь?
Один батюшка затеял ремонт в своей, пережившей немало суровых годин церкви. Поставили леса под самый потолок. Оставшись в храме один, залез батюшка на самый верх, осматривать чудотворения местных реставраторов. Вдруг видит: отворилась дверь, и в церковь чуть не на коленях влез изрядно выпивший мужичонка. Заламывая руки, он начал громко причитать:
«Господи, если Ты есть, спаси Ты меня от этой заразы, не могу больше пить. Ну сделай же что-нибудь, Господи! »
Мужичонка рухнул на колени: «Не буду, Господи, не буду!!!»
«Ну тогда ступай с миром», - последовал ответ.
Чем закончилась эта история неизвестно, но батюшка, рассказывая ее мне, сделал вывод, что Промысел Божий, так крепко за мужика взявшийся, вряд ли его оставил.
Восточный гуру и колбаса
Любят русские люди что-нибудь экзотическое. Признак ли это вселенской широты души нашей, о которой писал Федор Михалыч, или же нашей несусветной дури, о которой писали все великие писатели - не знаю. Знаю, что тянет нас постоянно неизвестно куда и неизвестно зачем, но уж точно на свою голову. Вот я всегда удивляюсь, зачем русские люди едут куда-нибудь в Индию, платят тысячи долларов, чтобы на полтора часа припасть в каком-нибудь сомнительном ашраме к ногам какого-нибудь сомнительного гуру.
Архангелогородцы тому не исключение, и маемся мы с сектами всех мастей вот уж как третий десяток лет. А казалось, чего бы проще: хочешь суровой аскезы, духовной мудрости и благодатных состояний - садись на машину или бери билет на поезд и будет тебе вскоре и первое, и второе, и третье. 8 часов колки дров на морозе и 10 часов мытья посуды на монастырской трапезной - и собственным телом прочувствуешь подвиги великих отцов древности. Мудрости на пару лет наберешься, если не в тысячетомной библиотеке обители, то из разговоров с многоопытной братией.
Отстояв 6 часов на уставном богослужении, исповедовавшись и причастившись Христовых Тайн, обретешь благодать, какой до Пришествия Господа в мир не ведало человечество.
Но это все присказка, а теперь и сама байка.
Мой старый приятель N. учился в свое время в одном из престижных столичных вузов. И, как свойственно молодой, талантливой и мятущейся натуре, находился в непрестанном духовном поиске. На этих виражах занесло его ни куда-нибудь, а в одну из многочисленных псевдоиндуистских сект. Ну а так как друг мой больше всего на свете терпеть не мог лицемерия, то отдался он новому увлечению со всей головой. Стал жестким вегетарианцем, отказался от всех видов психоактивных веществ (включая безобидные чай и кофе), забыл даже про дружбу с девушками и ежедневно вычитывал по четкам 2,5 тысячи мантр, благоговейно взирая на портрет любимого гуру над своей кроватью в университетской общаге.
Сокурсники, избравшие жизненным кредо триаду «пиво, дамы, рок-н-ролл», смотрели на увлечение моего приятеля с порцией доброй иронии: мол, каждый сходит с ума по-своему.
Как же совмещались в одной крохотной комнатушке индуистский ашрам с храмом Вакха и Венеры, могут знать лишь студенты легендарных 90-х годов - поколение, которое удивить чем-нибудь невозможно в принципе.
Стипендия у гранитогрызов была еще более крохотная, чем комната в общежитии. Хватало ее ровно на два дня загула, а дальше начинались суровые будни поисков «пропитания и пропивания». Друг мой в силу абсолютной трезвости и скудости рациона умудрялся растягивать стипендию на неделю, но неотвратимый вопрос: «и как же теперь жить дальше?» - вскоре поднимался со всей своей пугающей прямотой.
Однажды наступил предел. Есть было нечего, занять было не у кого, а индуисткий бог игнорировал и чтение мантр, и усиленную медитацию, бросив верного последователя на произвол судьбы. В помраченном состоянии сознания брел мой приятель по Москве и вдруг, подняв глаза к небу, внутренне завопил:
«Господи, если Ты есть, яви Себя. Ну невозможно так больше, сколько можно мучаться!? Мне теперь нужно бросить вуз, куда я с таким трудом поступил!! Да и вообще с голода могу помереть, если сейчас деньги не найду!!!». Хлынули слезы, и на душе сразу стало легче.
Вдалеке засиял куполами храм Христа Спасителя. Мало осознавая происходящее, N. направился туда. На улице перед самим храмом на удивление никого не было. Удивление сменилось шоком, когда на тротуаре под ногами друг мой обнаружил две аккуратно сложенные 500-рублевые купюры (средняя двухмесячная зарплата по тем временам). Шок перешел в радость, когда N. вспомнил слова своей первой отчаянной молитвы к Богу христианскому. Подняв деньги, приятель забежал в храм, поставил свечу; затем пошел в магазин купил вина, колбасы, сыра.
Когда он выкладывал покупки на стол в общаге, оголодавшие и ошалевшие сокурсники задали лишь один вопрос: «Что с тобой случилось?!!». N. ответил: «Друзья мои, сегодня я наконец обрел истинную веру, отметим это!» Затем подошел к своей кровати и снял со стены портрет великого гуру. Присутствующим показалось, что взор восточного учителя в этот момент стал особенно грозным.
Молитва о женихах
К одному батюшке в храм ходило много молодых незамужних девушек. Почти всех батюшка благополучно перенаправлял на клирос, ибо петь в церкви было некому, а служить Господу своими талантами - дело не только благодатное, но и душеспасительное. Клирос, говорят, потом гремел на всю епархию. Оплачивать этот прекрасный хор настоятелю было не из чего. Храм считался настолько бедным, что ни один из архангельских архиереев не решался обложить его епархиальным налогом. Не зная, как отблагодарить своих тружениц, батюшка пообещал выдать их всех замуж.
У некоторых клирошан заявление духовного отца вызвало надежду, у некоторых - иронию, у большинства - твердое убеждение: «батюшка просто хочет нас утешить». Мол, отродясь в наш храм молодые люди не заглядывали, а в кипящем страстями мире пойди и отыщи достойного кандидата в супруги. Но батюшка, обладая упертым характером (по слухам, самым упертым в епархии), начал после каждой литургии читать молитву о ниспослании женихов (говорят, есть такая в требнике).
Другие отцы посмеивались: вон, отче-то у нас, приворотами занялся, женихов вымаливает. Но батюшка упорно продолжал свое дело.
Прошло три года, в храм потянулись молодые люди. Совершили одно венчание, потом три, потом семь, потом за год то ли 12, то ли 15. Клирос опустел. Отец сокрушался: вот, домолились, теперь и петь-то некому! В храм молодых людей стало ходить больше, чем девушек.
Другие батюшки мнение свое переменили и уже наставляли своих алтарников: ты, давай, дурью не майся, гоголем не ходи, а бегом к отцу, который в своем храме «ярмарку невест» организовал. Слышал, что уже пять матушек (жен священников) из того храма вышло.
Батюшка-Пушкиновед
У одного батюшки никогда не было машины. И когда другие наши отцы пересаживались с отечественных на иномарки и меняли оные, батюшка так и продолжал ходить по бренной земле пешком и ездить в общественном транспорте, приводя в ступор видавших виды кондукторш: «надо же - поп - а на автобус полез».
Пешелюбие батюшки приносило постоянную головную боль его благоверной супруге. Батюшка, мало того, что проходил от 2 до 10 километров день, так и делал это в крайне непрактичной обуви. Не сказать, что отец по каким-то патриотическим причинам не признавал ральф-рингеров или рейкеров, он просто считал, что негоже настоятелю бедного храма щеголять в дорогих ботинках. А дешевая обувь быстро приходила в негодность…
Помню как-то забрел батюшка ко мне: - Миша, можно я погреюсь? А то, что-то ноги замерзли. Посмотрели ботинки - а там дыра величиной с пятак. - Батюшка, и долго ли вы так ходите? - Да неделю вторую. Думаю, вот старый стал: мороза нет, а ногам холодно.
Бывало, сердобольные члены общины, зная, что батюшка не любит дорогих подарков, просто покупали ему новую качественную обувь, не называя, конечно, цену. В очередной раз не выдержало матушкино сердце: «Отец, пойди в конце концов на рынок и купи себе нормальную кожаную обувь на меховой основе. Околеешь ведь скоро! Знаю, из церковной кружки не возьмешь - так вот тебе из моей пенсии!» Делать нечего. Понурив голову, батюшка отправился на архангельский рынок (рынков, надо сказать, священник не переваривал полностью, видимо в силу своей устремленности к горнему).
Навстречу ему попался подвыпивший мужик средних лет вида интеллигентного, хорошо одетого антиклерикала. Взглянув на сгорбленную фигуру батюшки, он самодовольно улыбнулся и громко, чтобы слышали все продавцы и покупатели в округе, рявкнул:
— Пошел поп по базару Посмотреть кой-какого товару!
Вопрос: Вы познакомились с отцом Таврионом, когда он здесь служил?
В первый раз я приехала к нему в 73-м году. Тогда я в Челябинске жила, где был один храм на миллионный город. Было тесно, и мы хлопотали, чтобы разрешили строить новый храм или отдали под него музей. С этим вопросом были даже в Москве, но нигде не получали положительного ответа. Это были 70-е годы, когда наоборот храмы закрывались, тяжелое время было. А мы вдруг вздумали еще просить храм… Когда мы приехали сюда, к отцу Тавриону, и пришли к нему на прием, я стала рассказывать, как мы были во всех этих инстанциях, которые против нас, а он сидел и улыбался. Видимо, такой был довольный, что нашлись люди, которые еще поднимают головы. Как говорил наш покойный архиепископ Свердловский и Челябинский Климент: «Одно хорошо, что вы не положили голову и не ждете, когда топор опустится». И отец Таврион радовался за нас, что мы действуем. Тогда он сказал мне: «Сама ничего не делай, Господь тебе укажет путь». Ну, я уехала домой, на работу пошла, а потом думаю: «Сколько я буду работать? Приду в трудиться». И уехала в Тобольск. А здесь, в Елгаве, была моя сестра и написала отцу Тавриону, что я ушла с работы в церковь. На что он написал мне записочку: «И у нас найдется». Я получила это письмо от старца и сюда приехала. Батюшка меня принял, но сразу не взял в свой домик. Потом мне дал послушание – ответы давать на письма, переводы, телеграммы. Поэтому я у него письмоводителем была.
Вопрос: Что запомнилось из тех, первых времен?
Батюшка читал мысли, как листья книжки. Такой пример: он принимает, а я в другой комнате сижу и слышу, что, видимо, женщина жалуется, что сыну изменяет женщина. Отец Таврион говорит: «Ох, эти женщины, ох эти женщины…». А я сижу и думаю: «Ну, так ведь бывает, и мужчины изменяют». А он мне отвечает: «Да, бывает» (общий смех) . Батюшка, прости, но это так же было, я и не знала, что придет время, я буду о святости твоей говорить, батюшка, ты же святой человек. Или такой маленький пример: он любил, тех, кто вокруг работал, чем-то, да утешить. Один год арбузов было много. Привезли большую машину арбузов и вечером все приходят с работы, говорят, кто что делал, а я там сижу, пишу. Всем по кусочку арбуза дал, а мне нет. Ну, я сижу, обиделась, значит. Потом сама себя успокаиваю, что ты никогда арбуза не ела, что ли? Он через некоторое время приносит кусочек, говорит: «На, не плачь» (общий смех) . Он еще с юмором был.
Вопрос: Да, святые они такие, с юмором.
Так что он читал наши мысли, как листья книжки.
Вопрос: Матушка, вы не помните москвичей, которые приезжали?
Много очень приезжали, всех не вспомнишь, я все сидела, писала, что они закажут. Помню тех, кто здесь работал, но они уже отошли ко Господу …
Вопрос: Молодые люди приезжали из Москвы?
Из Москвы? Да, очень много приезжало, очень много. Я как-то батюшке говорю: «Батюшка, у нас и академия, и семинария, и регентские курсы (смеется). У нас был состав – и неграмотные, и среднее образование, и высшее образование. Говорю, «наш приход, батюшка, это весь Советский Союз. Вся страна». Думаю, вот отовсюду посылки идут, только из Средней Азии, наверное, нету. Не успела подумать – из Ашхабада пришла (смеется) . Со всех концов страны, с Камчатки даже, отовсюду принимали посылки. А потом я им писала, что получили в исправности и молимся.
Вопрос: А как батюшка служил литургию?
Он служил литургию очень живо. Пели, значит, мы, сестры, только нас мало было – две или три, а с этой стороны все паломники – на два хора пели. Ну, иногда, соберется народ, кто может петь – ничего поем, а другой раз ничего не получается.
Вопрос: Паломники…
Да, паломники (смеется) . Мне надо было как бы руководить, а я сама ничего не понимаю. Я многому не училась. Батюшка очень высоко служил, у него голос высокий и мне сказали: «Ты, пой как он дает возглас». Он высоко – я тоже высоко. Ну и вот, ничего служба получится, то есть пение наше – я бегу вперед батюшки, открываю ему дверь и думаю: «Батюшка сейчас похвалит». Он заходит и говорит: «Хм, любовались …». И всё. А когда не клеится пение, думаю, сейчас батюшка придет и скажет: «Ну-у, как пели». Он заходит и говорит: «Красота»! А почему красота? Потому что не клеилось, и мы молились «Господи, помоги нам!» А когда клеилось, мы не молились, а любовались собой (смеется) . Я, значит, открою двери и дрожу, когда плохо получается, а он: «Красота, красота». Я не знаю, что и сказать (смеется) .
Вопрос: Когда же вы успевали? Литургия каждый день и вечером служба…
Батюшка вставал в четыре утра, иногда говорил мне, чтобы я постучала в окно ему, разбудила, когда он сам не встанет. Приходил, тут же проскомидию совершал, а потом на исповедь подходили, и я писала имена, а к батюшке подходили на разрешительную молитву. Он на ектенье только о тех молился, кто был записан на причастие. А так он не читал …
Вопрос: То есть на причастие записывали?
Писали имена тех, кто идет на причастие, и он на ектенье на литургии молился. Он так говорил: «Священник читает, читает, читает молитвы, а молящиеся стоят с ножки на ножку, с ножки на ножку переминаются». А потом говорил, не приходите рано, жалейте свои ножки, батюшка-то рано придет, а служба в шесть начнется.
Вопрос: А сколько длилась служба?
К восьми уже в Елгаву успевали уехать на работу. Быстро. Батюшка так службу вел, больше пели мы, весь народ. «Придите, поклонимся» -- все, «Святой Боже, Святой Крепкий …» – все. И во время литургии, и, в общем, «Милость мира» пели. И вот однажды вышли, я уже говорила при воспоминании, и мне что-то так пелось хорошо на душе. А он вышел и говорит: «Олимпиада язва хора». Я и рот разинула (смеется). Иду домой, думаю, что такое батюшка сказал? А оказывается, когда батюшка умер, на нас началось гонение, кто чтил батюшку. И в первую очередь на Олимпиаду… Он предвидел, батюшка-то всё, предвидел мою жизнь. Когда приехала первый раз, зашла здесь в храм деревянный, а там такая красота по сравнению с нашим маленьким храмом, где стоишь, бывало, и руку не поднимешь крестное знамя сделать. А тут цветы, свечи горят, на полу ковры, дорожки. Я восхищаюсь, как он любит Бога. Он вышел и говорит: «А как Его не любить?». И привел пример из своей тяжелой жизни. Думали ли вы батюшка, что вот сейчас я буду здесь говорить …
Вопрос: Многие же к нему за исцелением ехали?
Он исцелял, конечно, много. У него был такой порядок – после службы к нему под благословение никто не подходил. Он принимал в домике. Люди уже позавтракают и стоят на прием. И мне было очень радостно, он говорил, чтобы я постучала, когда пора на прием. Я как постучу, он выйдет и говорит так ласково, что я не могу так сказать: «Будем принимать». С такой лаской говорил, что я очень любила это слушать. Смотрю – там народ стоит, и мне настолько становилось на душе легко, тепло и радостно, что я готова была всех обнять.
И люди один за одним подходили, и он там уже беседовал спокойно, могли всё спросить. А ведь это уже было время такое, когда в других обителях священники нигде не принимали – 70-е годы… Здесь (показывает) была баня, приезжали паломники, могли в бане помыться. Кормили три раза в день – после литургии, обед и вечером после вечерней службы. Когда он пришел сюда в пустыньку, был только храм, а в храме – посреди железная печка и всё. И он все здесь поднимал сам. А тогда еще материалы трудно достать было, чтобы строить надо какие-то документы и прочее и прочее. И всё это батюшке удавалось его молитвами, и сам он тут трудился много, сам с таксистами ездил, покупал эти кровати, постельное белье – все, что сейчас есть. Много он потрудился, чтобы эту пустыньку восстановить, и я вот отцу Евгению (Румянцеву) говорю: «Батюшка, я опять выскажу свою обиду, было сто лет пустыньки и хоть бы слово сказали, что эту пустыньку возродил отец Таврион». Да если бы не отец Таврион, не было бы этого ничего! Он это всё сделал.
Вопрос: Господь-то знает…
Знает, да, Он это всё знает, но вот я грешница до сих пор… Дорогой батюшка, сколько ты сделал, сколько ты перестрадал. Он же сам мне и говорил, когда я пришла к нему последний раз на благословение. Он лежит, я на коленки встала, а он говорит: «Ты знаешь пророчество о пустыньке»? Я говорю: «Нет». – «Будут ясли, будут овцы, а ясти будет нечего». Ну, вот сейчас многое выстроено и сестер много, а слова Божьего нету. А я тогда не поняла, как это есть нечего… Сейчас и народ-то не едет, а тогда со всей страны ехали, он очень жалел, что в такую даль люди ехали. С Дальнего востока, отовсюду. Народная молва, как морская волна – один съездит и другому скажет, и все поехали, потому что могли все вопросы решить, да ещё такой приём. Потом он говорил, некоторые съездят в одну обитель, там, в Киево-Печерскую Лавру, а потом сюда приедут. Он говорил, все деньги там израсходуют, а потом…
Вопрос: …за молитвой сюда.
Да (смеется). А сюда приедут и тут рай.
Вопрос: Матушка Олимпиада, а как вы думаете, почему сейчас людям так трудно придти в храм?
Еще во времена страшных гонений старец говорил, что придет время, будут открывать храмы, золотить купола, будет свободное вероисповедание, всё для того, чтобы, когда Господь придет судить, не было отговорки, что не было возможности ходить. Я помню, работала и преподавала по совместительству, так меня попрекали, что я общаюсь с молодым поколением, а это несовместимо… А я только отвечала, что – это любовь. Только этим оборонялась.
А сейчас храмы есть, а где народ? Нет народа. У нас в Елгаве два храма, а тоже нет каждый день службы. Но всё равно, слава Богу, что храмы открыты, и есть куда придти… Я вот недавно была в Петрограде в парке Победы, а там был когда-то кирпичный завод, где сжигали всех погибших во время блокады. А теперь там храм построили Всех Святых, я в этом храме была, молилась и мне казалось, что мои умершие со мной молятся. Там каждый день служба утром и вечером, но народа все равно нет.
Вопрос: Отец Таврион умел вдохновлять людей для богослужения.
Он ведь сколько призывал людей активно участвовать… Приедет, бывало, человек никогда ничего не читал, а батюшка дает Шестопсалмие, говорит: «Иди, читай». А он ничего не понимает с листа, растеряется, как уж там читает… Сестры, конечно, сердились на батюшку, что он вот так дает, а потом этот человек пишет письмо, он уже приехал домой и уж чуть не псаломщик. Вот так. Или вот одна женщина приехала с мальчиком, говорила, что он немножко заикается. А батюшка дал ему читать Шестопсалмие. Он читал, заикался, бросил, я даже плакала за него, жалко стало. Через некоторое время прихожу в храм – дьяконом служит, голос такой! Вот как батюшка прославлял людей... В общем, он старался, чтобы народ участвовал в службе, и он в ней действительно участвовал.
Вопрос: А у него было какое-нибудь любимое песнопение?
Любимые песнопения были во время литургии, перед причастием пели всегда (напевает) « Аще и всегда распинаю Тя…», «Воскресение Христово видевши», «Милосердия двери отверзи нам», и в это время батюшка открывал Царские врата и выходил с Чашей. А вечером вместо кафизм пели нараспев акафисты или Божьей Матери, или Спасителю, или святителю Николаю. Очень любил он акафист «Слава Богу за всё», сам его читал… Он говорил: «Что вы едете? У нас тут нет никаких таких архитектурных зданий или ещё там чего-то такого, а вы едете?» А едет народ, сам участвует и выходит из храма радостный, что сам поет, и он теперь будет ездить и ездить пока сможет.
Вопрос: Многие же из года в год ездили.
Как-то я дверь закрываю, а одна старушка уходит и говорит «уж, наверное, не придется больше приехать», а я её утешила, говорю, ещё прилетите. Прошел год… (смеется) … приходит и говорит: «А вот и я!» (смеется) … А одна псаломщица батюшке письмо писала из Казахстана, где она на поселении была в селение Федоровка, что ее уже на санках зимой в храм возят, потому что сама ходить не может и все такое. Ну, ладно, я почитала это письмо и все. А летом приезжает она. Вот это ходить не может!
Батюшка, видимо, мне давал, как я сейчас понимаю, многие письма читать, знал, конечно, что я буду рассказывать… (смеется)… Один раз читала письмо, там страшно так женщина пишет, что раковое заболевание, как она страдает. Батюшка мне говорит: «Ты ей то-то в передачку собери». Я собираю, отдаю женщине, она той везет, а я про себя думаю: «Какая там передачка, человек смерти ждет, а батюшка ей то-то и то-то насобирал». А она исцелились. Батюшка умер, а она живет.
Все, кто у нас был, приезжали к себе домой, а потом посылали сюда посылки продуктов. Деньги нельзя было переводами, так спрячут в посылку. Да и переводы были. Даже если перевод получили, надо переписать имена и за них молиться. У меня даже всё тело заболело записывать эти имена. Мы вставали, я сказала, в четыре часа, потом шли на службу, там стояли, синодики читали, и иногда так плохо себя чувствовала, что, думала, хоть до причастия дожить. А причащусь – забываю про всё. Приду в домик, батюшка пойдет отдыхать, а мне там лампадки зажечь надо, к приёму приготовиться, и забуду, что плохо было. И, конечно, силы давала благодать батюшкина, он такой был подвижный, что я не успевала за ним …
Вопрос: Быстро ходил он?
Быстро, все в движении, как-то на кухне полотенца повесила беленькие – одно, другое. Он вышел и говорит: «Хм, нечем руки вытирать», принес какую-то тряпку – повесил (смеется) . Он был очень аккуратный, любил всё красивое, ризы особенно… А вот тот год, как ему умереть, сильные дожди были. Он болел, а они все лили, лили … И когда он умер – все прекратились, а во время отпевания так сверкало солнце …
Вопрос: Под Преображение он скончался? Получается, что он на Троицу последний раз служил и потом уже не выходил из кельи?
Ну, да, отец Евгений (Румянцев) уже служил в то время, его причащал, приходил. Еще сестричке батюшка сказал, как его одеть, а то говорит: «Умру, не будет никого из священнослужителей, которые знают, как меня одевать». А она подумала: «Ну как так, так много к нему ездят, его почитают и никого не будет»… А действительно один о. Евгений был. Утром мы пришли на службу, помню, без пятнадцати семь он умер, пришли на службу, и о. Евгений нам объявляет, что сейчас о. Таврион отошел.
Вопрос: Он был с ним, когда батюшка отходил?
Нет, никого не было. Даже вот этот юноша, который сейчас книжку написал, отец Владимир Вильгерт, он даже был в это время в пустыньке, но ему не сказали. Вот настолько его поставили последнее время в изоляции. Нас никого не допускали. Тогда гонения уже были, его устроили те, кто раньше его окружали.
Вопрос: А сейчас у вас есть связь с теми, кто к о. Тавриону из Елгавы приезжал?
Да, вот когда будет 13 августа день памяти, приедут из Таллина. Они в прошлом году приезжали и в этом году обещали приехать.
Пустынька под Елгавой, по дороге к могиле о. Тавриона, июль 2010.
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Шрифт:
100% +
Светозарные гости. Рассказы священников
Составитель Владимир Зоберн
Чудо не противоречит законам природы, а только нашим о них представлениям.
Блаженный Августин
Бесноватая
В ера, прихожанка нашего храма, угрюмая, сварливая женщина, громко кричала на детишек соседа. Я не стал при всех стыдить ее, и отложил разговор на завтра.
В ту же ночь ее муж постучал ко мне в дверь. Он сказал, что жене очень плохо, и позвал меня к ней. Я пошел к ним с требником и епитрахилью. Там собралась толпа народа, а бесноватая в одной рубашке, с растрепанными волосами сидела на печи, зверски смотрела на меня и стала плеваться, потом горько заплакала, приговаривая:
– Головушка моя бедная, зачем он пришел?
Четверо сильных мужчин едва стащили ее с печи и подвели ко мне. Вера же по-всякому ругала меня, пыталась вырваться и броситься на меня. Несмотря на это, я, накрыв ее епитрахилью, стал читать молитвы об изгнании злых духов и на каждой молитве спрашивал:
– Выйдешь ли ты?
– Нет, не выйду, – был ответ, – мне тут хорошо!
– Побойся Бога, выйди!
Но бес не оставлял страдалицу. Наконец мне надо было идти к утрене, и я велел отнести ее в храм. Когда собрался народ, я велел всем встать на колени и молиться Богу об избавлении Веры от беса, а сам опять стал читать молитвы и Евангелие. Тогда бес голосом Веры громко закричал:
– Ох, тошно, тошно мне!
Вера заплакала, приговаривая:
– Боюсь, боюсь, боюсь! Тошно, тошно мне, выйду, выйду, не мучь меня!
Все это время я не переставал читать. Потом Вера зарыдала и упала в обморок. Так прошло с четверть часа. Я окропил ее святой водой, и она пришла в себя, потом дал ей попить воды, и она смогла перекреститься, встала и попросила отслужить благодарственный молебен. Теперь Вера здорова.
Рассказ странника
Однажды ко мне на ночлег попросился старичок-странник:
– Батюшка, я ходил в Киев помолиться святым угодникам Божиим. Прими меня на одну ночь, ради Христа!
Я не смог ему отказать и пригласил в дом. Странник поблагодарил, снял котомку и устало сел около печки. После горячего чая он повеселел, и мы разговорились.
– Вот уже десять лет, как я похоронил жену, – рассказывал он, – детей у меня нет, и все эти годы паломничаю по разным святым местам: был в Иерусалиме, в Троице-Сергиевой Лавре, на Святой Горе Афон, а теперь возвращаюсь из Киева. Да, батюшка, мне только и осталось ходить по обителям. Родных у меня нет, работать уже не в силах.
– Но, друг мой, – сказал я ему, – что бы ходить по святым местам, нужны деньги, прокормить себя в дороге, сколько других расходов…

У церкви. 1867 г. Худ. Илларион Прянишников
– Бог не без милости, а мир не без добрых людей. Господь велел, и люди принимают нас, странников. Вот и вы не отринули меня, грешного.
Наша беседа затянулась далеко за пол ночь. Утром я служил литургию, и позвал его с собой в храм. После службы он пообедал у меня и стал собираться в путь. Когда он брал у меня благословение, я заметил у него на руке следы от затянувшихся ран.
– Что это такое? – спросил я.
– Батюшка, я долго болел, не знал, как вылечиться, но Господь исцелил меня по молитвам Своих угодников.
Эта болезнь и заставила меня, грешного, ходить по святым местам, потому что я тог да забыл Господа Бога и предался миру и его искушениям.
Лет десять тому назад у меня умерла жена. На сороковой день я собрался помянуть покойницу. Накануне сходил на базар в сосед нее село, закупил все необходимое для поминок. В сороковой день попросил священника отслужить литургию за упокой новопреставленной и собрал народ на поминки.
Утром, как ни старался, не мог подняться с постели, не было сил. Меня осмотрел доктор, но его лечение не помогло, я пролежал неделю без движения, и тут, наконец, вспомнил про Господа! Приглашенный мной священник от служил молебен Пресвятой Богородице, Заступнице нашей, и святителю Николаю.
После молебна к нам домой попросился на ночлег один старец-странник. Когда он увидел меня, то сказал:
– Видно, за грехи наказал тебя Господь. Но Он милостив, молись Ему! У меня есть масло от мощей киевских святых, помажь им больные места.
Около полуночи, когда все спали, я разбудил своего племянника и попросил помазать мне маслицем больные места. Он выполнил мою просьбу, и вскоре я заснул. Утром мне сказали, что странник недавно ушел. Я велел племяннику догнать его и спросить, нет ли у него еще масла от киевских святынь. Старец не вернулся, но передал:
– Если Господь поднимет его с постели, то пусть сходит в Киев, там получит полное исцеление.
На следующий день я опять помазал освященным маслицем больные места и смог уже вставать и понемногу ходить, а через три дня был совершенно здоров. «Слава Тебе, Господи, – подумал я, – завтра позову священника, он отслужит молебен, а весной, Бог даст, пойду в Киев помолиться святым угодникам и поблагодарить их за исцеление!»
Но Господь все устроил по-другому. Этой же ночью мне опять стало плохо. Тогда я понял, что нельзя откладывать паломничество до весны. Нет, как только поправлюсь, сразу же пойду! И милосердный Господь благо словил мое сердечное желание.
Прошло два дня, и я выздоровел. Собрав кое-что в дорогу, я простился с родными, взял посох и пошел с надеждой на Господа Бога. По пути в Киев заходил в Воронеж и Задонск, наконец, к ноябрю дошел до Киева.
Ах, батюшка, как там хорошо! Сколько там почивает мощей святителей, праведных, преподобных! Сердце радуется, душа так и хочет улететь в горний мир. Прожил там не дели две – и, слава Богу, от моей болезни остались только следы.
Три года тому назад умер мой племянник. Я продал свой дом и теперь странствую по святым местам.
Это случилось на пятой неделе Великого поста. В сельском храме готовились к великому празднику Воскресения Христова. Прихожанку храма, благочестивую старушку, попросили почистить церковную утварь и образа. После литургии батюшка вместе со старостой принесли к ней домой икону святой великомученицы Параскевы в серебряной ризе, которая сильно потемнела от времени.
На следующий день мужики вышли из храма и стали возмущаться:
– Как батюшка посмел вынести икону из церкви, не спросив об этом у прихожан?!
Решили организовать собрание общины и пригласить туда батюшку. Когда он пришел и выслушал обвинения, то попытался их убедить, что старушка надежная, что она подготовит икону к великому празднику Пасхи, и завтра он сам привезет образ. Слова священника не успокоили прихожан, они стали кричать, что икона пропадет, что в церковь привезут другую, уже не в серебряной ризе, что батюшка скорее всего подкупил старуху… Словом, надо было срочно привезти икону, чтобы успокоить толпу.

Святая Великомученица Параскева. Икона конца XIX в.
Приказав заложить сани, священник с церковным старостой поехали к старушке. По дороге они проезжали мимо соседней деревни. Ее жители уже слышали о мнимой краже иконы, и не было избы, из которой не сыпались бы на бедные головы священника и старосты самые обидные и непристойные ругательства.
Приняв от старушки вычищенный образ и вернувшись в село, священник потребовал у сторожа ключ от церкви, чтобы поставить икону на место. Но тот ответил, что ключ у него отобрали селяне. В это время к ним подошли вооруженные дубинами мужики. Они дерзко сказали батюшке:
– Мы караульные, в храм тебя не пустим! Завтра днем посмотрим на икону! Если та самая, то хорошо, а если другая, мы с тобой разделаемся!
Сколько ни убеждал их священник, но вынужден был отнести икону к себе домой и ждать следующего дня. Лишь только он успел затеплить лампаду перед святым образом, как к нему постучал мужик и позвал его к умирающей старухе. Для того чтобы батюшка мог взять Святые Дары, караульные открыли церковь и проводили его до алтаря и обратно.
На следующий день, на рассвете, сельский староста вновь пришел к священнику, объявив, что прихожане собрались и требуют его к себе. На этот раз толпа не давала батюшке сказать ни слова. Больше всех кричал один старик, отец сельского старосты.
Священник обратился к нему:
– Побойся Бога! Зачем ты, старый чело век, внушаешь молодежи такие мысли? Ведь грешно, одумайся! Тебе надо их вразумить, а ты кричишь громче всех! Бог может наказать тебя за это!
Но старик продолжал обвинять батюшку в воровстве и вдруг упал на землю, разбитый параличом. Все затихли.
– Его наказал Господь, пойдемте скорее за иконой, помолимся святой Параскеве! – пронеслось в толпе.
Долгое время старик был без сознания. А притихшие прихожане служили молебны о его здравии и просили Господа о прощении…
Разбойник вразумил
В небольшом селе, расположенном на берегу живописной реки, праздновали день Пресвятой Троицы. Из калитки вышел опрятно одетый старичок, белый как лунь, с ласковым лицом и добрыми улыбающимися глазами. Подростки, увидев его, с радостными криками побежали к нему:
– Здравствуй, дедушка Егор! Расскажи что-нибудь, расскажи!
Этот старик был отставным унтер-офицером, человеком начитанным, благочестивым и немало видевшим на своем веку. Присев на завалинку, дедушка Егор подождал, пока все рас положились рядом, и начал свой рассказ.
– Уж более 40 лет прошло с тех пор, как мне стал особенно памятным праздник Святой Троицы. Мне тогда было лет 25, я еще не вступил в полк, и работал приказчиком. Мой товарищ, тоже приказчик, Петр Иванович, был сыном купца, в десять лет остался круглым сиротой и жил у своей тетки, помещицы, женщины кроткой и благочестивой. Петр Иванович был тихим, скромным, и мог отдать нищему последнюю копейку.
Но человек не без греха, и Петр Иванович тоже имел свои странности. Он почему-то не любил ходить в церковь. Я говорил ему:
– Петр, почему ты в церковь редко ходишь? Хоть бы к обедне сходил!
Он улыбнется, бывало, и скажет:
– Все равно, где молиться: дома или в церкви, Бог-то один! Так что я могу и дома помолиться!
Однажды накануне праздника святых апостолов Петра и Павла он пошел в поле. Солнце тихо садилось за лесом, вечер был чудесный, ничто не предвещало ненастья. Когда Петр Иванович подошел к полю, погода резко изменилась: подул сильный ветер, в небе поя вилась черная грозовая туча. Вскоре хлынул дождь, засверкала молния. Он сошел с гряз ной дороги на траву и остановился. В этот момент сверкнула молния и ударила в землю в двух шагах от него. Если бы Петр Иванович не сошел с дороги, то молния попала бы в него.
В другой раз, на праздник Воздвижения Креста Господня, он вместе со сторожем по шел в лесную сторожку. Петр Иванович по слал сторожа на чердак, а сам ждал его в сенях. Вдруг какая-то сила подтолкнула его в горницу. Как только Петр Иванович вошел и закрыл за собой дверь, в сенях послышался страшный грохот.
Когда он открыл дверь, то не поверил своим глазам: потолок в сенях обвалился. Оказывается, сторож, когда стал слезать с чердака, облокотился на перекладину, поддерживающую потолок. Перекладина была гнилой, она и обрушилась. Петра Ивановича задавило бы, если бы он остался в сенях.
В его жизни были и другие случаи чудесной помощи Божией, но он не вразумлялся и по-прежнему не ходил в храм. Я надеялся только на то, что Сам Господь обратит его на путь истинный и заставит ходить в церковь!
Накануне праздника Пресвятой Троицы Петр Иванович поехал в город, чтобы переложить свои деньги из городского банка в губернский. Он был очень трудолюбивый человек, а деньги копил на черный день. После того, как он взял деньги из банка, Петр Иванович решил отвезти их сначала домой. В городе его стали отговаривать знакомые:
– Куда ты поедешь, ведь завтра большой праздник! Сходил бы ты в церковь, помолился, а завтра после обеда и поехал бы, ведь тебе некуда спешить! А теперь ехать опасно: вечер, да и гроза собирается.

К Троице. 1902 г. Худ. Сергей Коровин
Но Петр Иванович не послушался.
Как только он двинулся в путь, в храме зазвонил колокол ко всенощной. Но он все равно не стал заезжать в храм. Вскоре стал накрапывать дождик, постепенно превратившийся в ливень. Когда Петр Иванович въехал в лес, то подумал: «Уже половину пути проехал, скоро и до дома доберусь!» С этими мыслями он продолжал путь. Вдруг кто-то схватил его лошадь за узду и закричал:
Хотя Петр Иванович был не из робкого десятка, он сильно испугался. На него набросились несколько человек, ударили по голове и стащили с телеги…
Когда он очнулся, увидел, что уже наступило утро. Он лежал на земле, раздетый, лошади рядом не было. От слабости Петр Иванович не мог даже пошевелиться. Тогда он обратился к Богу с молитвой:
– Господи! Я очень грешен перед Тобой, я не ходил в Твой храм! Прости меня, помоги мне, не дай мне умереть без покаяния! Обещаю, что буду ходить в церковь!
После этого он потерял сознание, а очнулся уже у меня в доме. Случилось это так. В тот день после литургии я должен был ехать в город по делам. Когда я проезжал по лесу, услышал чьи-то стоны. Вижу – кто-то лежит. Я перекрестился, слез с телеги и по дошел поближе. Как же я удивился, увидев перед собой Петра Ивановича! Он, бедный, был весь в крови и без сознания. Я кое-как взвалил его на телегу и привез к себе домой.
Через день он пришел в себя.
Болел Петр Иванович полгода. Хозяин его уволил, и он остался без куска хлеба. Во время болезни он ни разу не возроптал на Господа Бога, все время молился и говорил:
– Я этого достоин. Слава Тебе, Господи!
Когда ему стало лучше, он решил искать себе работу, но я его не пустил:
– Куда ты пойдешь? Ты еще не совсем здоров. Слава Богу, кое-какая есть, нам с тобой хватит, прокормимся. А то у меня родные умерли, теперь и ты уйдешь. Ни за что не пущу!
Так и остался Петр Иванович у меня жить. Он стал часто ходить в церковь, много молился, за все благодарил Господа.
Незаметно прошел год, опять наступил праздник Пресвятой Троицы. В этот день Петр Иванович долго на коленях молился в храме. Когда он пришел домой, я спросил:
– О чем ты так усердно молился?
– Я просил, чтобы Господь пристроил меня куда-нибудь. Не могу же я даром есть твой хлеб! – И заплакал.
А я сказал:
– Да что ты, Бог с тобой! Кто тебя попрекает хлебом? Бог милостив, не оставит.
Только я произнес эти слова, как принес ли бандероль и письмо на имя Петра Ивановича. Что такое, думаю, ведь он никогда не получал писем.
А он мне говорит:
– Это тебе, наверное, прислали, а по ошибке мое имя написали.
Я взял письмо, стал читать и не поверил своим глазам. Это письмо прислал тот, кто ограбил Петра Ивановича под Троицын день и по чьей вине он остался без куска хлеба! Вы, может быть, спросите, кто был этот человек? Этого я не знаю, он ничего о себе не сообщил.
Этот недобрый человек писал, что хотел украденные деньги припрятать на черный день. Но совесть не давала ему покоя, с каждым днем ему становилось все тяжелее. На конец он решил вернуть деньги.
Я молча протянул письмо Петру Ивановичу. Прочитав его, он заплакал, опустился на колени перед образом Спасителя и стал молиться.
И я тоже не мог сдержать слез.
Раскаяние раскольника
Вот что рассказал мне крестьянин, прихожанин нашего храма:
– Я, батюшка, в молодости был в рас коле вместе со своей семьей. Но милосердный Господь, Который не хочет смерти грешника, вразумил меня, окаянного.
Мой отец завещал отвезти его тело после смерти в деревню Лисенки, где была секта беспоповцев. И там после отпевания раскольническим попом, то есть старой девой, похоронить его в лесу, где обычно хоронят раскольников.
Когда отец умер, я, выполняя отцовское завещание, повез его тело в Лисенки. Тогда мы, раскольники, боялись православных, если бы они узнали о захоронении в лесу, то должны были сообщить об этом властям, к нам приехал бы полицейский, а там следствие… Поэтому я поехал глухой ночью. До Лисенок надо было ехать лесом. Поездка с мертвецом, ночь, крик сов – все это привело меня в сильное уныние. Но я продол жал ехать, думая, что делаю доброе, святое дело – исполняю завет отца. Но тут-то и случилась страшная история. Наверное, Господь сжалился над Своим погибающим созданием, захотел меня, окаянного, вернуть в лоно Матери – Святой Православной Церкви, от которой отошел мой отец и меня увлек на погибель.
Проехав половину пути, я случайно обернулся и увидел, что мой покойный батюшка лежит на дороге! «Что за чудо, – подумал я. – Телега ехала тихо. Я услышал, если бы тело упало на дорогу!» Тем не менее, тело покойного лежало на земле, а пустой гроб стоял, накрытый крышкой!
Будто невидимая сила выхватила тело моего несчастного отца, умершего без церковного покаяния, и повергла его на землю. У меня даже волосы на голове зашевелились и прошиб озноб. Даже сейчас мне страшно вспоминать об этом… Я положил тело в гроб, а крышку привязал веревкой. И что же? Через некоторое время тело опять было на земле! Так повторялось три раза.
И враг-то, батюшка, помрачил меня, окаянного! Мне надо было вернуться назад, а я все ехал, как одержимый, вперед, боясь, что надо мной будут смеяться мои же собратья-раскольники.

Раскольница на кладбище. Русский Север.
Фото начала XX в.
Не помню, как я доехал до Лисенок, потом похоронил отца, по обычаю раскольников, в лесной глуши.
Этот страшный случай так на меня подействовал, что я вскоре оставил раскол и при соединился к Православной Церкви, а вместе со мной в Православие перешло и мое семейство.
С тех пор, батюшка, опротивели мне раскольники, я избегаю бесед с ними, как смертоносной заразы. Так вразумил меня Господь.
Скованный цепями
Недавно я услышал поразительный рас сказ. В одном приходе после смерти настоятеля его место занял новый батюшка. Через несколько дней он тоже отошел ко Господу. Его место занял другой священник. Но с ним случилось то же самое – он вскоре умер! Таким образом, приход в течение месяца лишился двух новых священников.
Духовное начальство нашло нового кандидата на освободившееся место, им оказался молодой священник. Его первая служба в храме приходилась на праздничный день.
Войдя в алтарь, батюшка неожиданно увидел недалеко от святого престола незнакомого священника, в полном облачении, но скованного по рукам и ногам тяжелыми железными цепями. Недоумевая, что все это значит, батюшка, однако, не потерял присутствия духа. Помня, зачем пришел в храм, он начал обычное священнодействие с проскомидии, а после прочтения третьего и шестого часов совершил всю Божественную литургию, не обращая внимания на постороннего священника, который после окончания службы стал невидим.

Портрет священника. 1848 г. Худ. Алексей Корзухин
Тогда иерей понял, что тот скованный священник пришел из загробного мира. Но что это значило, и почему он стоял именно в алтаре, а не в другом месте, этого он не мог понять. Незнакомый узник во время службы не произнес ни одного слова, только поднимал скованные цепями руки, указывая на одно место в алтаре, недалеко от престола.
То же самое повторилось и на следующей службе. Новый батюшка взглянул на то место, куда указывал призрак. Присмотревшись, он заметил лежавший на полу, около стены, небольшой ветхий мешок. Он поднял его, развязал и нашел там множество записок о здравии и об упокоении, какие обычно подают священнику для поминовения на проскомидии.
Тут иерей понял, что эти записки остались непрочитанными умершим настоятелем храма, который явился к нему из загробного мира. Тогда он помянул на проскомидии имена всех, кто был в тех записках. И тут же увидел, как помог умершему священнику. Едва он закончил чтение этих записок, как тяжелые железные цепи, которыми был скован загробный узник, с лязгом рухнули на землю.
А бывший настоятель подошел к батюшке, не говоря ни слова, упал перед ним на колени и поклонился. После этого он снова стал невидим.
Служба Отечеству
Как-то меня пригласили на освящение квартиры одного чиновника. Быстро одевшись, я вышел на улицу, где меня поджидал слуга этого господина, крепкий солдат. Пока мы шли, я спросил его, давно ли он на службе?
– Я уже, батюшка, второй год в отставке.
– А сколько лет ты служил?
– Двадцать пять.
Я удивился. Он был так моложав, что ему нельзя было дать больше тридцати лет.
– Наверное, служба-то была легкой, без особых трудов?
– Не знаю, что сказать на это, батюшка. Может ли у солдата быть легкая служба? На труд солдат и присягает! Вот я, например, прослужил двадцать пять лет – и все на Кавказе. Сколько за это время мне пришлось вы терпеть! Да, сколько я прошагал, вернее, по ползал, по горам Кавказа! И в Дагестане был, и в Чечне, да мало ли! К первым кавказским удальцам, может быть, и не принадлежал, но и не отставал от них.
– Это, батюшка, из-за особенной ко мне милости Божией. Поэтому, думаю, и на военную службу попал.
– Да разве ты смотришь на военную службу, как на особенную милость Божию к человеку? – удивленно спросил я.
– Конечно, батюшка!
– Почему?
– А потому, что из-за военной службы я и свет Божий вижу, и счастлив в семейной жизни.
– Как же это? – спросил я.
– Я родился в селе, – начал он. – Мой отец был крестьянином, из трех его сыновей я самый старший. На шестнадцатом году моей жизни Господу было угодно испытать меня: я стал терять зрение. Так как я был помощником отца, моя болезнь сильно его печалила. Несмотря на свою бедность, он отдавал на мое лечение последнюю трудовую копейку, но ни домашние средства, ни лекарства не помогали.
Обращались мы с молитвой и к Господу, и к Матери Божией, и к святым угодникам, но и здесь не сподобились милости. Через какое-то время моя болезнь усилилась, и наконец, я полностью ослеп. Это случилось ровно через два года с начала моей болезни. Совершенно потеряв зрение, я стал ходить ощупью и часто спотыкался. Тяжело мне было тогда, передо мной была постоянная, нескончаемая ночь. Не легче было и моим дорогим родителям.

Голова крестящегося солдата. 1897 г.
Худ. Василий Суриков
Однажды, когда я был в доме один, вошел отец. Положив руку мне на плечо, он сел рядом и задумался. Долго длилось его молчание. Наконец я не выдержал.
– Батюшка, – сказал я, – ты все горюешь обо мне? Зачем? Я ослеп, потому что так угодно Богу. Что же, батюшка, ты хотел мне сказать, – спросил я его, – скажи откровенно!
– Эх, Андрюша, разве я могу сказать тебе что-то радостное? Думаю, что тебе надо идти к слепым и учиться у них просить подаяние Христа ради. Хоть чем-нибудь тогда поможешь нам, да и сам не будешь голодать!
И тогда я понял всю тяжесть моего положения и крайнюю бедность, из-за которой страдал мой отец. Вместо ответа я заплакал.
Батюшка, как умел, стал утешать меня.
– Не ты, – сказал он, – первый, и не ты последний, Андрюша, дитятко мое! Наверное, так угодно Богу, чтобы слепые кормились Его именем. И просят-то они во имя Божие…
– Правда-то правда, – в волнении за метил я, – слепые просят подаяние во имя Божие, но многие ли из них живут по-христиански? Батюшка, я и сам думал об этом, зная вашу нужду, но никак не мог переломить себя! Лучше я день и ночь буду работать, жернова передвигать и голодом себя морить, но не пойду по окошкам, не стану таскаться по базарам и ярмаркам!
После такого решительного отказа мой отец больше не настаивал и не напоминал мне о подаянии.
В начале октября батюшка пришел с улицы и, обратившись к матери, со вздохом сказал:
– Много у нас будет слез на селе.
– Почему? – спросила мать.
– Да объявили набор в армию.
– Большой?
– Да не малый!
Потом батюшка внезапно спросил меня:
– А что, Андрюша, если бы Бог вернул тебе зрение, пошел бы ты в солдаты? Стал бы служить за братьев?
– С величайшей радостью! – ответил я. – Лучше служить государю и Отечеству, чем с сумой ходить и даром есть чужой хлеб. Если бы Господь вернул мне зрение, я ушел бы в этот же набор!
– Если бы Господь умилосердился на твое обещание, я бы с радостью благословил тебя!
На этом вечер и закончился. Утром я встал рано, умылся и, позабыв о вчерашнем раз говоре, стал молиться. И, о радость! Я вдруг стал видеть!
– Батюшка, матушка! – закричал я. – Молитесь вместе со мной! Встаньте на колени перед Господом! Кажется, Он сжалился надо мной!
Отец и мать бросились на колени перед образами:
– Господи, помилуй! Господи, спаси!
Через неделю я был совершенно здоров, а в начале ноября уже стал солдатом. Прошло двадцать пять лет моей службы, и у меня ни разу не болели глаза. А где я только ни бы вал, под какими ветрами, в каких сырых местах, какой переносил зной! Сейчас я женат, в отставке, и могу честным трудом кормить свою семью.
После этого, батюшка, я смотрю на военную службу, как на милость Божию ко мне! Видно, батюшка, служба православному го сударю приятна Господу!
– Плата за электроэнергию опять «подскочила». Уже недели три нет горячей воды. Батареи же во всех комнатах года четыре едва теплые.
– Уважаемый, это все понятно, но объясни мне, будь любезен, в чем тут твоя вина?
– Стоп, а я и не говорю, что я в чем-то виноват!
– Тогда с какой стати ты, драгоценный, ко мне пожаловал? Я имею дело только с теми людьми, которые не отрицают своей вины. Ведь я не управдом советских времен, я – протоирей.
Вы когда-нибудь сталкивались с таинством, именуемым исповедью? Упомянутое выше – реальная история, которую рассказал мне православный батюшка. Этот полноватый мужчина, каждый сантиметр сутаны коего прямо-таки излучает благодушие, служит делу Божьему в моей родной Днепровской области.
Могу вас уверить, я не стал бы писать то, что вы сейчас читаете – нет. Виной тому – невольный курьез. Недоразумения на исповеди таковыми и являются потому, что они никогда не повторяются.
Случаи же, когда в храм наведываются, словно в Страсбургский суд, превратились в некую закономерность и напоминают не хохму, а основательное социологическое исследование.
Что такое исповедь?
Это – каторжный труд. Один из признанных деятелей этого поприща как-то сказал: «Смотря на себя в зеркало, я вижу перед собой девочку, которую Чехов описал в своем рассказе «Спать хочется!» Я год за годом, десятилетие за десятилетием пытаюсь убаюкать непослушного и капризного малыша, который, ворочаясь на постели, все равно не засыпает. И он не уснет никогда. Ты в этом уверен, но все равно поешь ему колыбельную».
– Послушай батюшка, наша деревня лишилась последней школы, по мне, так это – большой грех!
– Безусловно, однако этот грех не на тебе, а на государстве.
– А знаешь еще что. С января этого года взяли, и урезали субсидию. А детский терапевт, сволочь такая, перевелся в райцентр, теперь внучку вожу за восемьдесят километров. Электрички из-за «долбанных» корейских составов простаивают – добираться приходится на стареньком «Икарусе», а это – часов десять дороги. К тому же дрова подорожали.
– Что ж, мне очень жаль, но в своих-то грехах будем каяться, или нет?
Довольно продолжительное время я наблюдаю за Украиной, и, чем дальше, тем прихотливее выглядят линии человеческих претензий. Мне еще в какой-то мере повезло застать время, когда человек мог напрямую связаться с местной администрацией и надеяться если не на быстрое разрешение своих сложностей, то, как минимум, на сочувствие.
Хотите – верьте, хотите – нет, но даже власть имущие областных центров не прятались за турникетами и службой безопасности – кому надо – заходи, рыдай, жалуйся, угрожай. Естественно, к самому главному секретарша преградит путь грудью четвертого размера, но его можно было выловить хотя бы в коридоре.
Тебя что-то тревожит?
Замечательно, пиши официальное заявление, получай ответное, не менее официальное, уведомление. Не по душе ответ – да ради Бога, существует куча способов «накропать» официальное послание. Куда угодно – в обладминистрацию, в Киев, в Верховную Раду, в администрацию господина Порошенко, в «родную» прокуратуру, в прокуратуру области, в Генпрокуратуру.
Официозом не довольствуется только Господь, Ему достаточно искренней просьбы. Пиши, куда угодно, результат всегда один и тот же: твое обращение «спустят» в местную администрацию с обязательным указанием во все разобраться. Но отныне даже в каком-нибудь ПГТ Дорофеевка при входе – «дежурка», словно в районном отделе полиции, а также набивший оскомину турникет.
И глава не появляется даже на крылечке: для него приготовлен «черный» ход, переулок и собственное авто с пузатым водителем.
К слову, о Дорофеевке. Однажды туда пожаловал чиновник следственного комитета Владимир Зубков и подопечные ему следователи. Распахнулись двери приемной. Вы бы видели людей, пришедших туда со своими жалобами. Перед «дежуркой» и турникетом собралась целая толпа.
Я стал невольным свидетелем того, что они говорили, и мне стало жаль не столько так называемых ходоков, сколько зубковских «следаков». Знаете, почему? Местных, то есть «дорофеевских», там было человек пять-десять.
Зато в эту глубинку съехалось человек пятьсот с Украины Западной, Восточной и Центральной. Был даже какой-то «упакованный» дядя из пригорода Киева, приехавший на «козырном» BMW. Кто-то недосчитался пенсии, у кого-то «оттяпали» кровный бизнес, кого-то ни за что посадили.
Эти люди собрались здесь по одной причине – там, откуда они приехали, не осталось никаких ресурсов, и даже в заваленный бумагами Киев веры нет. Здесь же – нормальные и живые ребята из следственного комитета. А вдруг возьмут, и выручат? Пусть даже у них ничего не выйдет, но в их глазах хоть можно увидеть что-то от людей.
Короче, молодым следователям досталась роль священнослужителей, вынужденных нести грехи родного государства. Вытирая со лба капельки пота, они стоически выслушивали посетителей, даже откровенно помешанных, предлагали им оставить все необходимые бумаги, и говорили нечто вроде молитвенного напутствия: «Не переживайте так, мы непременно со всем разберемся».
Само собой, большая часть этих дел «благополучно» возвратилась туда, откуда она «стартовала», то есть местные органы власти «имели счастье» ограничиться очередной отпиской. Скажите, а вы бы как поступили на месте этих следователей? Ощутили бы себя правозащитниками?
Уничтожение надежд
Я уже лет двадцать наблюдаю за этой церемонией уничтожения надежд. И этот ритуал мне довелось видеть настолько часто, что все происходящее напоминает банальный сюжет, когда электрик насилует домохозяйку.
Такие «электрики» через какое-то время появляются и в Украине, и имя им – ратующие за права человека, областные представители президента, – все эти люди в костюмах за две тысячи долларов организуют приемы для простых людей.
И этих простых смертных насилуют мужчины и женщины, приходящие со своими бедами и проблемами, а парни и девушки, которых Бог поставил работать следователями, пытаются хоть что-то изменить, но безрезультатно, и они становятся одними из тех, кто в очередной раз не оправдал надежд населения.
Теперь же «электриками» выступают священнослужители. Только сегодня они получают свое назначение не с Небес, а с самых низов. К ним приходят грузчики, охранники, менеджеры и весь их внешний вид говорит: «Кто, если не ты?»
Однако Бог – не обладминистрация. Наши жалобы и молитвы Он спускает ниже поместных белых домов – туда, где живет действующая власть, то есть нам с вами. «А как насчет своих грехов, будем каяться, или еще подождем?» Я уверен, что с этого-то и начинается подача горячей воды, нормальный терапевт в местной поликлинике и по-настоящему железная дорога для электричек.
Благослови вас Бог!
2016, . Все права защищены.