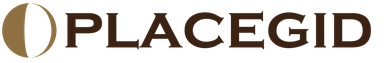Смысл иконы – в соединении миров. Созидание сакральных пространств
Алексей Михайлович Лидов (род. 9.03.59 г., Москва) - российский учёный, историк и теоретик искусства, византолог и религиовед, автор концепции иеротопии – науки о создании сакральных пространств.
Специализировался в области истории византийского искусства, занимался христианским искусством Армении и Грузии. В дальнейшем Лидов обратился к исследованию чудотворных икон и реликвий. Были проведены две выставки: «Христианские реликвии в Московском Кремле» и «Спас Нерукотворный в русской иконе», организована международная конференция, вышли сборники.
Изучая роль чудотворных икон и реликвий в формировании сакрального пространства в православной традиции, Лидов сформулировал в 2001 году новое понятие иеротопии. Главный тезис состоял в том, что создание сакральных пространств должно рассматриваться как особая сфера творчества и самостоятельный предмет историко-культурных исследований.
В 2004 г. Лидов участвовал в качестве эксперта в чрезвычайной миссии ЮНЕСКО, организованной в связи с погромами и массовым уничтожением сербского культурного наследия в Косово. Лидов является одним из основателей экспертного сообщества «Защита Культурного Наследия», которое выступает за сотрудничество Церкви и музеев в деле сохранения памятников древнерусского искусства, передающихся в пользование Церкви. Известен своими выступлениями против бесконтрольной передачи Церкви храмов с уникальными фресками и старинных икон, представляющих особую художественную ценность и нуждающихся в специальных условиях хранения.

Алексей Лидов. Синай, рядом с иконой Христа Пантократора VI в.
Чем икона отличается от религиозной картины? Почему мы смотрим на иконы не так, как люди Византии или Древней Руси? Нужно ли отменять высокий иконостас? Об этом и многом другом мы говорим с Алексеем Лидовым, византологом, историком искусства, академиком РАХ, директором Научного Центра восточнохристианской культуры, заведующим отделом Института мировой культуры МГУ.
– Отличается ли восприятие иконы современным человеком от восприятия людей, живших в Византии или Древней Руси?
– Конечно, в значительной степени поменялась система ценностей и способ видения мира. Восприятие иконы в Византии было гораздо более органичным и естественным.
Можно говорить в целом об иконическом способе восприятии мира, когда мир мыслится не как окончательная и последняя реальность, после которой ничего нет. Именно традиция Нового времени в той или иной форме доводит до нас мысль, что ничего, кроме того, что мы имеем, не существует.
В Византии люди воспринимали то, что они видели, как образ-посредник, как некое отражение другой реальности. Понятие иконического – наше главное наследие, полученное от Византии, но оно абсолютно не звучит в современной культуре, в частности, в культуре современной России. Хотя присутствует в нашем сознании или даже в подсознании, и многое определяет в восприятии мира, даже не будучи осмысленным.
Это ощущение мира как иконы, как отражение другой, высшей реальности проходит через всю русскую культуру.
Когда мы задумываемся, чем Толстой и Достоевский, как писатели, отличаются от Диккенса или Бальзака, то понимаем – именно этим иконическим восприятием мира: они описывают мир как образ-посредник, как способ перехода в другую реальность. Эта особенность, о которой они сами, скорее всего, никогда и не думали, на мой взгляд, унаследована из Византии.
– Икона как раз была объединяющим фактором, и восприятие иконического – общая основа культуры, это было доступно и простому крестьянину, и интеллектуалу-аристократу.
С другой стороны, конечно, были разные иконы, и мы знаем, что в Византии существовала некая иерархия эстетического, и образованные люди вполне оценивали красоту иконы и изящество письма. Сохранился рассказ византийского интеллектуала Михаила Пселла о том, как он ворует иконы из храма. Он объясняет, что ворует не те иконы, которые в драгоценных окладах, и совсем не потому, что они дорого стоят, а именно потому, что, видя невероятную красоту, не может удержаться.
Уверен, что эту красоту в значительной степени воспринимали и очень простые люди. Нам сейчас это трудно представить в нашем обществе, где со времен Петра существуют две культуры: народная и аристократическая. Образованный класс был выведен из национальной культуры и погружен в культуру иноприродную, при том условии, что основная масса народа, то есть, более 90 процентов, остались в культуре традиционной, в культуре византийского типа.
На протяжении нескольких столетий Россия жила в ситуации двух разных систем ценностей. Для образованного класса в его системе ценностей икона как таковая вообще не имела никакого значения, была не замечаема и в каком-то смысле презираема.

Андрей Рублёв. Троица (фрагмент)
Открытие иконы как явления искусства и духовной жизни происходит в конце XIX века. В этом огромную роль сыграли старообрядцы, которые были первыми собирателями икон и которые установили иерархию ценностей в иконописании, например, увидели отличие образов XV века от поздней традиции.
В дальнейшем происходит эстетическое открытие иконы – главным образом в культуре авангарда, который увидел в иконописи оригинальное формотворчество, практически не видя духовных смыслов.
Осознание того, что икона – это совершенно другой способ восприятия мира, отличный от просто религиозной картины, появились не так давно. Для обычного человека икона – разновидность религиозной картины, и не более того.
Хотя между религиозной картиной, к примеру, «Явление Христа народу» Александра Иванова и, допустим, «Троицей» Андрея Рублева лежит пропасть. Это два совершенно разных явления по типу восприятия мира. Нормальному человеку не придет в голову молиться на великую картину Александра Иванова. Он будет ее подробно рассматривать, изучать, вспоминать какие-то тексты.

Александр Иванов.
Явление Христа народу
Тогда, как смысл иконы, в частности «Троицы» Андрея Рублева – это перевод смотрящего в другую реальность. Смысл иконы - в соединении миров. Это два разных типа восприятия мира. Это же отличает нашу икону от традиции католической живописи.
Итальянские храмы полны замечательной религиозной живописью, но многие, бывая в Италии, замечали – когда речь идет о молельном образе, те же итальянцы рядом со своим прекрасным религиозными фресками и скульптурными украшениями ставят византийскую икону, иногда весьма простого письма.
Очень часто там можно увидеть репродукцию иконы Владимирской Богоматери или «Троицы» Андрея Рублева. Когда нужно молиться, и нужен образ-посредник, то византийскую икону заменить ничто не может.

Владимирская икона Богородицы (фрагмент)
– Но, все-таки, честно говоря, трудно представить, что византийский ученый-богослов и, скажем, крестьянин, одинаково видели все смыслы иконы.
– Мы сейчас очень недооцениваем уровень восприятия средневекового «простого люда», который был гораздо более образованным, чем нам кажется. Речь о людях, выросших внутри православной культуры и по-своему образованных.
Например, в Константинополе в XII веке все жители имели начальное образование (я имею в виду городской народ: ремесленники, торговцы и так далее). И в это начальное образование входило знание о Платоне и Аристотеле, о Плутархе, о пьесах Софокла, не говоря о знании Евангелия и основах богословия.
И поэтому, когда в Византии возникали богословские споры, отголоски этих споров звучали на городских улицах, что иногда раздражало высоколобых философов и богословов. Они писали, что на рынке народ, вместо того, чтобы сидеть и продавать зелень или иные товары, спорит, например, о взаимодействии Божественной и человеческой природ у Христа. Это типичная византийская картинка, которую нам трудно представить.
Икона – это как раз то, что объединяло народ в Средние века. Да, конечно, какие-то изыски иконографии простые люди могли не понимать. Но, это было такое, если хотите, многослойное восприятие реальности, в которой были разные уровни глубины.
Вот, например, стихи Пушкина в русской культуре XIX века. Ведь их же читали в крестьянских домах! Конечно, какой-нибудь профессор филологии Петербургского университета воспринимал эти стихи гораздо более многослойно – но это не значит, что простые люди не могли их воспринимать и им радоваться.
С другой стороны, для того, чтобы оценить византийскую традицию в ее полноте, надо помнить о ее двух важнейших образах – утонченно-аристократическом и экспрессивно-монашеском.
Первый связан с переосмысленными традициями античности, второй – с монашеской культурой восточнохристианских монастырей. Следы ее можно увидеть, например, в современной Каппадокии – десятки пещерных храмов, расписанных фресками. Это искусство, совершенно не похожее на то, что было в Константинополе. Тут не нужен был античный идеал, античная красота, монахи ее сознательно отвергли как красоту чувственную, уводящую, по их мнению, от основных духовных смыслов.
Это искусство стремилось к чистой духовности и открытой экспрессии, даже за счет сознательного упрощения форм. Иногда эти фрески похожи на современную абстрактную живопись. И эти два центра, два лика одной культуры, влияли друг на друга.

Жены-мироносицы и ангел на гробе. Фреска пещерной церкви в Каппадокии. XI в.
– Какое влияние на храмовое искусство и иконопись оказало появление многоярусного иконостаса? Почему нам трудно воспринимать маленькую алтарную преграду?
– Это очень интересный сюжет, как алтарь и алтарное пространство постепенно закрывается от верующих. Да, в какой-то степени нам не привычна низкая алтарная преграда. Но в последнее время я все чаще вижу возвращение к византийской алтарной преграде в некоторых храмах, где отказываются от многоярусного высокого иконостаса.
Здесь мы повторяем путь, который проделывали наши предки в XIX веке, которые обращались к неовизантийскому стилю: неовизантийские храмы, начиная со всем известного храма Христа Спасителя, стояли по всей России. В Храме Христа Спасителя у нас не многоярусный иконостас.
В ранней Византии алтарные преграды были не только низкими мраморными перегородками, но они были по преимуществу открытыми. И это была неотъемлемая часть византийской Литургии, которую во всех ее основных этапах могли видеть верующие в храме. И, конечно же, её могли видеть во всех подробностях те, кто находился на хорах.
В XI веке начинается закрытие иконостаса. Это было связано с тенденциями уменьшения зрелищности и с усилением мистического переживания таинства. Такая практика стала распространяться в середине XI века в монастырях. Это вообще очень важный период, когда появляется новая византийская иконография, с центральной композицией «Причащения апостолов», с образом Христа-священника.
Эти изменения тесно связаны с полемикой вокруг схизмы 1054 года и с осознанием многими византийскими богословами, что они принадлежат к другому типу христианства, чем Запад. И вот эту свою иную веру они захотели подчеркнуть в иконографии. С этим связан и процесс закрытия алтарей, и помещением икон между колонками алтарной преграды.
Но, как мы знаем из письменных источников и сохранившихся памятников, практически до XV века в Византии не было заданной модели – какой следует быть алтарной преграде. И одновременно в том же Константинополе существовали самые разные алтарные преграды: от абсолютно открытых до многоярусных.
На Афоне в XIV веке, скорее всего, в окружении Филофея Коккина, будущего Константинопольского Патриарха, была осуществлена реформа. Её причины понятны: Византийская империя шла к своей гибели, к тому времени распался на разные политические структуры православный мир, и замысел тех, кто проводил реформу, состоял в том, чтобы унифицировать литургическую жизнь в условиях политически распадающегося византийского содружества государств, и за счет унификации сохранить единство православия.
Появление высокого иконостаса, на мой взгляд, было неотъемлемой частью этого процесса. Первые примеры высокого иконостаса, что показательно, мы видим на Руси, в том числе в Успенском соборе Московского кремля. Знаменательно, что осуществляет эти попытки митрополит Киприан, который был келейником Филофея Коккина, то есть, был его ближайшим сподвижником. Он принес на Русь эту великую идею унификации литургической жизни в условиях политического распада. У него, конечно, были помощники и среди великих художников, в этом процессе, как мы можем догадываться, участвовал и Феофан Грек.
В чем смысл многоярусного иконостаса? Отец Павел Флоренский назвал иконостас прозрачной стеной. Стеной, которая, с одной стороны, закрывает пространство таинства, а с другой – создает образ этого таинства, доступный всем через иконную структуру многоярусного иконостаса. То есть одновременно создает образ таинства и скрывает его.
Иконостас – это одновременно и образ мироздания. В этом смысле иконостас играет ту же роль, которую в Ветхозаветном храме играла знаменитая Храмовая Завеса, которая отделяла Святое святых.
Так что многоярусный иконостас – очень интересное явление, вокруг которого до сих пор идут споры, потому что очень многие западные богословы критикуют эту традицию, как богословски неправильную.
Исторически на Западе была алтарная преграда, но в XVIII веке, в связи с идеями Просвещения, её не только отменили, но и практически уничтожили, так что было потеряно огромное количество памятников. Алтарная преграда упразднялась в связи с идеей просвещённого христианства, которому не нужно прятать от верующих таинство.
Но суть иконостаса не в том, чтобы скрывать таинство как таковое, а в том, чтобы переживать образ таинства, не имея к нему прямого доступа. То есть сохранение традиции, которая идет еще от Ветхозаветного храма, где только первосвященник один раз в год мог войти в Святое святых – место присутствия Божия, – для того, чтобы окропить Ковчег Завета кровью жертвенного агнца.
Поскольку Господь невидим, то это знание о святости, о таинстве гораздо важнее, чем непосредственное созерцание самого таинства. Эта идея переходит и в православную византийскую традицию.
Мы знаем в Византии очень яркие примеры так называемых невидимых икон. Есть иконы спрятанные, которые никогда нельзя увидеть, как например, главная чудотворная икона Кипра – икона Богородицы Киккотисса, почитаемая в одноименном монастыре. Она закрыта окладами и завесами, и категорически запрещается саму древнюю икону увидеть.
Это очень важное переживание невидимого, которое настолько значимо и священно, что даже обыкновенное зрение не соответствует его статусу. Неотъемлемая часть нашей традиции, даже – нашего религиозного мистицизма, который, благодаря высокому иконостасу развился на Руси даже в большей степени, чем в Византии.

Киккская икона Божией Матери (Киккотисса)
– Сегодня появляются образы святых с подсветкой, с переливами и так далее. Как вы относитесь к таким иконам – и можно ли их считать иконами?
– В большинстве случаев это нельзя рассматривать иначе, чем как профанацию и попытку сделать святыню общедоступной, на продажу, для внешнего развлечения.
При этом я – не противник нововведений, напротив, сторонник очень деликатного, глубокого и последовательного размышления на тему использования в церкви новейших технологий, в частности мультимедийных инсталляций. Мне кажется, что тут есть большая перспектива. Но это серьезная большая работа.
То, что мы видим сейчас, как правило, раздражает своей примитивностью и несовпадением с традицией. Вроде распространенных неоновых вывесок «Христос Воскресе!», которые зажигаются на иконостасе в определённый момент. Как на это может реагировать обычный нормальный человек? Он начинает воспринимать храм как некий магазин, где он привык видеть такие рекламные вывески, и реагировать на это соответственно.
Мне кажется, большая проблема связана со светом в современном храме. Драматургия света – важная часть византийской культуры, которая организует восприятие сакрального пространства. Понятно, что в современных условиях без электрического света не обойтись. Но применять его в храме, особенно во время Литургии, надо с невероятной осторожностью, потому, что он искажает суть.
Неслучайно в старообрядческих церквях, насколько мне известно, существует запрет на использование электрического света. И не потому, что они категорически не желают принимать ничего нового, а потому, что остро чувствуют иноприродность этих технологий по отношению к смыслу православного богослужения. Это все равно, как православную икону раскрасить цветными лампочками, как игрушку на елке. Но электрическая елочная игрушка не может стать образом-посредником, который приведет нас в другую реальность.
И это часть большой проблемы. Икона – язык нашей культуры, ее основа, о которой мы практически ничего не знаем. Мы не умеем по-настоящему говорить на языке иконы, потому что нас никто никогда этому не учил.
И практически нигде этому не учат. Ну, может быть, в семинарии в общем курсе что-то прозвучит про иконы или, в лучшем случае, в кратком курсе истории живописи. Но это не приводит к пониманию иконического.
Изучение языка иконы должно стать одной из основ общего образования русского человека. Потому что понимание икон напрямую связано с этой национальной идентичностью.
Детей с детсадовского возраста следует водить в музеи, где есть замечательные древние иконы, и, показывая, объяснять, что это за искусство и чем, например, икона XII века отличается от иконы XV века и XVII века. Потому, что это все разные языки внутри одного великого языка.
Сейчас, когда уже появились замечательные, высокопрофессиональные художники, которые создают оригинальные иконы в рамках византийской традиции, особенно важно сделать изучение иконы частью образования. И это важно для самих художников, которые, освоив традицию, могут пытаться создать что-то новое.
Мы говорили об этом на презентации замечательного альманаха «Дары», посвященного современной православной культуре, главным образом, проблеме иконы и современной религиозной картины.
Мы подошли к очень важному рубежу: уже накоплены силы и опыт, чтобы создавать новое, современное православное искусство и современную православную икону. Которая будет не просто повторением когда-то сделанного, а привнесет новые современные смыслы и откроет новую эпоху в развитии тысячелетней традиции русской иконописи. Это своего рода вызов культуре нашего времени: можем ли мы создать что-то свое в рамках великой традиции?

Алексей Лидов
– Можно ли говорить, что русская иконопись – это путь развития византийской традиции?
– Несомненно. Достаточно прийти в Третьяковскую галерею: в первом зале иконы домонгольской эпохи, а в последнем – иконы XVII века, можно оценить огромную разницу и проследить некий путь. Но надо понимать, что это отнюдь не путь линейного прогресса. Скорее, увы, это путь некого искажения византийской традиции.
В моей новой книге «Иконы» есть глава, где говорится об искажении византийской традиции иконы и ее понимания как пространственного образа. Значительную роль в этом искажении сыграло изменение технологий в XVI веке, когда процесс иконописания свелся к воспроизведению прорисей – схем, которые переносились на доску и затем раскрашивались. Да, икона стала доступной для широкого распространения, но это искажает художественную суть явления.
Византийские мастера так никогда не писали. Художники не смотрели на иконописный подлинник, не повторяли схемы. В «худшем» случае они смотрели на замечательные иконы, которые писались иконописцами предыдущих столетий и, вдохновляясь ими, создавали свой собственный образ.
Сейчас все, по большей части, сведено к некому унифицированному ремеслу. Икону опустили до уровня товара. На это мне могут ответить, что так было всегда, и в XIX веке и в XVIII торговцы носили дешевые иконы по русским деревням, по городкам, вместе с иконами продавая всякую всячину – дешевую парфюмерию и украшения.
Но в нашей традиции, к сожалению, подавляющее большинство сограждан вообще не понимает разницу между хорошей иконой, не очень хорошей и дешевой подделкой. И тем более, между иконой, которая является произведением искусства и просто чем-то, сделанным на продажу.
И это, повторюсь, колоссальный пробел в нашем образовании. Пробел, связанный с тем, что мы до сих пор не можем восстановить ни собственную идентичность, ни собственное чувство достоинства, потому что мы не понимаем, кто мы, мы ничего не знаем о наших истоках в Византии, не знаем об основных формах нашей духовной культуры, в частности, об иконе и понятии иконического, которое определяет наше своеобразие и значительные достижения русской культуры.
И осознание собственного невежества – уже огромный шаг вперед и обещание будущих открытий.
Мы публикуем стенограмму передачи «Наука 2.0» – совместного проекта информационно-аналитического канала «Полит.ру» и радиостанции «Вести FM». Гость передачи – зам. директора по науке Института мировой культуры МГУ, основатель и директор Научного Центра восточнохристианской культуры, историк искусства и византолог Алексей Михайлович Лидов. Услышать нас можно каждую субботу после 23:00 на волне 97,6 FM.
Анатолий Кузичев: Я приветствую слушателей радиостанции «Вести.FM» и ценителей совместного проекта портала «Полит.ру» и радиостанции «Вести.FM» – «Наука 2.0». Мы сегодня продолжаем беседу с Алексеем Михайловичем Лидовым, историком искусств, византологом, замдиректора по науке Института мировой культуры МГУ, а также основателем и директором Научного центра восточно-христианской культуры. Алексей Михайлович, добрый день.
Алексей Лидов: Добрый день.
А.К.: И представлю ведущих программы: Борис Долгин, Дмитрий Ицкович -представители портала «Полит.ру» и…
Дмитрий Ицкович: Анатолий Кузичев от радиостанции «Вести.FM».
Борис Долгин: Сегодня мы хотели поговорить об иеротопии. Мы в прошлый раз мы начали говорить о пространственных иконах и, как мне кажется, ближе всего подошли к этому понятию. Что это?
А.К.: Или о сакральных пространствах?
А.Л.: Это очень близкие вещи.
А.К.: А что такое иеротопия?
А.Л.: И это слово, и понятие сравнительно новые – всего девять лет, поэтому люди продолжают задавать этот справедливый вопрос. Здесь даже два вопроса вообще: что это такое, и зачем нужно новое слово?
Б.Д.: Что помогает понять новый научный термин?
А.Л.: Да. Под иеротопией понимается создание сакральных пространств, она рассматривается как особая сфера человеческого творчества: и духовного, и художественного. Это именно создание пространства, а не предмета, например, иконы, храма, чего угодно…
А.К.: Распятия…
Б.Д.: Не музыкального произведения, а именно пространства.
А.Л.: Именно пространства. На мой взгляд, это может и должно быть рассмотрено как особая сфера человеческого духовного и художественного творчества, а также как новая область историко-культурных исследований, в которой анализируются конкретные проекты создания сакральных пространств.
Д.И.: В какой ряд можно поставить этот термин, чтобы как-то прояснить?
А.Л.: Сам термин? Это слово составлено из двух греческих корней: «hieros», что значит «священный», отсюда слово «иерархия», например. И «topos», что значит «место», «пространство», «понятие». Собственно говоря, это слово было придумано мною в 2001 году, чтобы определить эту особую сферу человеческой духовной и художественной деятельности. Почему? Потому что само понятие сакрального пространства – слишком широкое и расплывчатое, фактически относящееся ко всей сфере религиозного. А вот эта сфера по многим причинам как бы выпала из современного культурного и научного контекста. В том числе и потому, что не было придумано некое слово-понятие, которое бы ментально, то есть в сознании закрепляло бы эту сферу.
Д.И.: Рамки поставило.
А.Л.: Что речь идет не о сакральном пространстве вообще, которое имеет отношение ко всей сфере религиозного, а именно о создании сакральных пространств, как сфере человеческого творчества. Это очень важное уточнение – человеческого. То есть это не иеротопия…
Д.И.: Это главное различие между сакральным пространством и иеротопическим?
А.Л.: Нет, это не различие, это некая такая тонкая дефиниция. Потому что, например, в науке, в истории культуры, в антропологии существовало понятие «иерофании», которое в свое время предложил крупнейший теоретик культуры и антрополог Мирче Элиаде, румын по происхождению, окончивший свою карьеру как профессор Чикагского университета, может быть, самый влиятельный исследователь ХХ века в сфере религиозной антропологии. Он ввел понятие иерофании – то есть понятие некого места, которое выделяется изо всех прочих в результате некого откровения. В частности, почему люди начинают почитать то или иное место? Почему из сотен гор Синайского полуострова была выбрана одна гора Хорив, на которой состоялась встреча Бога и человека? На которой Моисей получил скрижали и …
Д.И.: Ну, это известно у кого надо спрашивать.
А.Л.: Он это и говорит, то есть эта гора выделена из сотен подобных в результате иерофании. В частности, как классический пример иерофании, он рассказывает про библейскую, всем нам известную историю, связанную с лестницей Иакова. Как Иакову во сне является некая лестница, по которой ангелы сходят с небес на землю, и возникает некое соединение неба и земли. А потом Иаков просыпается и объявляет это место Землей Святою и тем самым на этом месте строит первый в истории человечества, то есть в истории иудео-христианской традиции, алтарь. Я сознательно в свое время использовал этот пример иерофании, чтобы провести различение между иерофанией и иеротопией. Иерофания – это феноменология, это попытка описать нечто, в принципе не описуемое, связанное с откровением, но на уровне мифов, на уровне каких-то базовых топосов. А иеротопия, собственно говоря, в этой истории с лестницей Иакова начинается тогда, когда он просыпается и начинает создавать это пространство. Когда он камень, служивший ему изголовьем, ставит как алтарь, возливает на него елей, произносит молитвословие, то есть создает протохрам, как бы мы сейчас сказали. На этом месте Богоявления.
А.К.: И это его activity – это и есть иеротопия?
А.Л.: Да, то есть его деятельность, его творчество. Это и есть иеротопия.
Д.И.: Творчество – хорошее слово здесь.
А.Л.: Самое разное, но подчиненное одному единому замыслу. Вот он занимается архитектурой, потому что он ставит этот камень, служивший ему подушкой, как алтарь. Устанавливает некое архитектурное сооружение и дает начало архитектурному пространству. Тут же и ритуалы, и молитвословие, то есть возникает некая среда, в которую входят и архитектурная составляющая, изобразительная…
Связанные организацией света: драматургия света – очень важный компонент и очень важная сфера иеротопического творчества. Организация среды запахов, о которой мы чаще всего забываем, и, конечно, ритуально-обрядовая среда. Это все чаще всего задумывалось как единая концепция, единый проект, который мы сейчас уже в рамках позитивистской науки и представлений нового времени изучаем по частностям, по маргиналиям. Мы изучаем архитектуру, архитектурные объемы, все что связано, грубо говоря, со строительством. А вот искусствоведы изучают изображение.
Б.Д.: Музыковеды изучают напевы и звуки.
А.Л.: Да, музыковеды изучают звуковую среду настолько, насколько это попадает в рамки их вполне формализованной дисциплины. Какие-то звуки они не изучают, потому что не воспринимают их как музыку, а это глубоко неверно. А, например, свет до последнего времени не изучал почти никто. Потому что свет не вписывался ни в одну из ныне существующих дисциплин.
Б.Д.: Архитектура, по-моему, занимается все-таки светом?
А.К.: И физика еще немножко.
Д.И.: Есть оптика, которая занималась, условные споры Гете по этому поводу.
А.Л.: Но не как сферой творчества. Опять-таки, до последнего времени кто занимался созданием этой среды запахов, которая играла в древности колоссальную роль и была регламентирована в деталях? Например, мы знаем о меняющееся среде запахов, существовавшей в ветхозаветном храме или во время римско-императорских церемоний.
Б.Д.: Ну да. Такая антропология обоняния – это уже последнее время.
А.Л.: Это сюжет не традиционной истории, не искусствоведения, не археологии – целые пласты знания просто уходили, как песок между пальцами.
А.К.: Иеротопия – очень хорошее слово. Есть такое ощущение, что оно старое, которое мы просто раньше не знали. В этом смысле отличное слово.
А.Л.: Я бы сказал, что это очень правильное ощущение, и для меня как для автора этого слова нет большего комплимента.
А.К.: Остановились мы на запахах.
Б.Д.: На разнообразии, на попытке разъятия…
А.Л.: На том, что предмет есть. У иеротопии есть свой предмет, который на протяжении столетий как бы был вытеснен из новоевропейской культуры, поскольку все, что было связано с сакральным пространством, а именно чем-то эфемерным, нельзя было потрогать, а, следовательно, по позитивистской логике, нельзя изучить. То, что принципиально нематериально. Но если мы задумаемся, то в сознании людей древности, средневековья, в сознании человека религиозной культуры именно пространство является точкой отсчета и главной целью, то есть пространство сакрально, если перевести на более понятный прикладной язык. Пространство как среда, которая создается для общения человека и Бога. В некотором смысле мы все, так или иначе, занимаемся иеротопией, сами того не зная, как мольеровский Журден не знал, что говорил прозой. Потому что в своем доме, даже если мы люди не верующие, не принадлежащие ни к одной из существующих религий, создаем какие-то места, связанные, например, с воспоминаниями о наших предках. Места, где стоят фотографии наших родителей или находятся предметы, так или иначе выводящие нас из повседневной реальности и связанные с нашей культурной, духовной памятью. Для меня очень важно, что иеротопия – это некая базовая форма духовной деятельности.
Д.И.: Из последних ваших слов можно было сделать вывод, с которым можно в каком-то пределе и согласиться. Но в рамках нашей передачи я бы поспорил, что любая творческая активность направлена в сторону иеротопии.
А.Л.: Если мы говорим о духовной активности, то до некоторой степени это так. Например, что происходит. У всех у нас есть дети или все мы могли видеть маленьких детей, которые в очень раннем возрасте начинают рисовать, иногда замечательно рисовать, не зная о том, что существуют уроки рисования, художественные школы, академии искусства и так далее. Они начинают рисовать и потом включаются в некую систему художественного образования, отработанную и ставшую некой устойчивой формой культуры. Так вот иеротопия – это то же самое. Только эта сфера духовной жизни, связанная с созданием сакральных пространств, оказалась выключенной из сферы культуры.
Д.И.: Знаете, есть очень хороший пример с детским рисованием. Есть рубеж, обычно это приблизительно 11-12 лет, и есть принципиально разный подход к рисованию детей и людей после определенного возраста. Дети до этого переходного момента выключены из художественных практик взрослых. Я занимался педагогикой, дети от 3 до 7 лет у нас были. Категорически нельзя на одном листе с ребенком что-то рисовать, потому что это несовместимые пространства.
А.Л.: Абсолютно – это разные концепции. Так вот, то же самое для маленького ребенка – создавать сакральное пространство – это естественная форма духовного самовыражения, которая потом не находит поддержки ни в каких внешне существующих формах жизни, в образовании, в культуре и так далее. Этого просто не существует.
Д.И.: Для ребенка создавать сакральное пространство – это естественная форма самовыражения?
А.Л.: Да, и вообще для человека, который осознает себя духовным существом. Это базовая форма, потому что это основа духовной жизни вообще – создание некой среды общения с высшим миром, назовете вы его Богом или как-то иначе, не суть важно. Человек становится духовным существом постольку, поскольку он ощущает свою связь с духовным, с иным высшим миром. Собственно говоря, среда коммуникации, среда связи с этим высшим миром и есть некая базовая потребность, а все остальные формы творчества или искусства возникают уже как результат и как следствие. Что у нас получилось, мы изучаем эти частности иногда до невероятных деталей, например, изобразительное творчество или какое-то другое, архитектурное или какие-то иные моменты, словесное.
Д.И.: Можем даже ароматы изучать.
А.Л.: При этом мы теряем представление о целом, из которого это все получилось.
Д.И.: Очень понятно, почему так происходит. Потому что у нас духовное противопоставлено в культуре рациональному. И даже для человека духовного идея, что сейчас рациональным образом будем изучать твое пространство, может вызвать скорее всего негативную реакцию.
А.Л.: Почему? Если это реально существует, это некая сфера исторического знания. Понимаете, в чем сила иеротопии как подхода? Именно как сферы исторических исследований, то, что мы не изучаем откровения. Мы не занимаемся мистикой и даже феноменологией этой мистики. Мы изучаем конкретное творчество конкретных людей в конкретных обстоятельствах. То есть те образы пространства, которые вначале у конкретных людей возникали в головах, а потом воплощались во всем, каждый конкретный храм – мы не знаем ни одного точно повторяющегося храма – это иеротопический проект. Эта среда не ограничивается только храмом. Традиционный русский крестьянский дом, да не только русский. В рамках любой традиционной религии…
Б.Д.: Традиционное жилище…
А.Л.: Это иеротопический проект – традиционное жилище, в котором есть, если хотите, свой канон, своя иконография достаточно устойчивая, но и огромная сфера индивидуального. Именно поэтому каждый традиционный крестьянский дом (древнерусский, старорусский) уникален.
Д.И.: А традиционный европейский дом?
А.Л.: Традиционный европейский дом? А с какого времени считать традицию? Потому что западноевропейское Новое время вполне сознательно и целенаправленно эту сферу иеротопического творчества вытесняло и подменяло ее, как я это называю, псевдоиеротопией. Классический пример псевдоиеротопии – это первомайская демонстрация. А до этого – какие-нибудь праздники, сценографии и все что хотите.
Д.И.: Алексей Михайлович, здесь надо объяснять – боюсь, что у наших слушателей будет потеряна нить. Мы с Борей немножко понимаем, в чем дело, а слушателям надо объяснить, что иеротопическое пространство – это не обязательно архитектурное пространство или совокупное какое-то пространство запахов, архитектуры. Это пространство шествия, пространство…
Б.Д.: Которое содержит свое пространство запахов, музыки, света.
Д.И.: Впрочем, мы все хорошо знаем Крестный ход – это иеротопическое пространство, созданное в момент Крестного хода.
А.Л.: Нет, здесь немножко спутаны причины и следствия. Крестный ход – мы часто не задаем себе вопрос «для чего?» Что мы делаем? Если мы православные люди, то мы на Пасху идем Крестным ходом вокруг храма. В чем, собственно говоря, смысл? Мы там что, просто ходим по кругу? Нет, смысл в том, что мы участвуем, мы являемся художниками, создающими конкретную иеротопию, то есть мы создаем сакральное пространство. Эта сфера жизни была невероятно развита в Древней Руси, особенно до петровских реформ. Петр указами запретил большую часть таких иеротопических проявлений. Потому что он очень остро почувствовал противоречие между этой формой духовной жизни и основным направлением развития страны и западноевропейским рациональным дискурсом.
А.К.: Европейским путем.
Д.И.: Нет, нет, есть же очень простое слово: прогрессом.
А.Л.: Нет, это из другой оперы. Прогресс тут ни при чем. Это какой-то совершенно боковой ход. То, о чем я говорю, никакого отношения к прогрессу не имеет. Может быть, именно поэтому оно и должно было быть вытеснено.
Д.И.: Оно противоречит прогрессу, потому что прогресс никакого отношения к этому не имеет, там не может быть прогресса.
А.Л.: До некоторой степени – да, но там очень много творчества.
Б.Д.: А мне кажется, что прогресс тут ни при чем, скорее, рациональность.
А.К.: Почему-то они никогда не живут вместе. Это же не случайно?
Д.И.: А давайте вернемся к первомайской демонстрации – хорошему примеру псевдоиеротопии.
А.Л.: Собственно, на этом мы начали и закончили. Псевдоиеротопия – это когда используются какие-то формальные структуры, выработанные в рамках традиционного иеротопического творчества. Вот этих бесконечных Крестных ходов, литий и вообще самых разных процессий, которые едва ли не каждый третий день происходили, например, в средневековой Москве XVI-XVII веков, включая такое великое действо, как шествие на осляти, происходившее в день входа в Иерусалим, Вербное воскресенье. Но таких было множество, в это было вовлечено почти все православное население Москвы. Это была некая сфера творчества.
В нашем современном сознании все разделено по полочкам, по дефинициям: вот это творчество, это обыденная жизнь, а это общественная жизнь, это политика, а это религия. Так вот там, в этом иеротопическом творчестве, все было в одном, и один из смыслов, к которому они стремились в XVI-XVII веках – создание некого великого образа Москвы как Нового Иерусалима, как обетованного града Второго пришествия. То есть идеи, что именно русские люди в своей столице, в Москве, получат преимущественное право в момент Второго пришествия. Понимаете, и национальная идея, и политика, и религиозное начало – все неразделимо. И действа этих людей, где, конечно, за проектами стояли гениальные художники, о которых мы тоже не говорим. Они выпали из истории искусства, а их творчество, создателей этих иеротопических проектов, может быть сравнимо с творчеством великих кинорежиссеров, которые объединяют искусство самых разных мастеров для создания этого единого проекта сакрального пространства. А этих мастеров, этих создателей сакральных пространств, мы обычно даже не называем.
Или, когда речь заходит об архитектуре, эти создатели сакральных пространств превращаются в обычных заказчиков, которые просто дают деньги на реализацию того или иного проекта. Но отнюдь не всегда, во-первых, заказчик, дающий деньги, был создателем сакрального пространства, хотя это иногда совпадало. Великий пример – император Юстиниан, который не только финансировал создание величайшего храма Софии Константинопольской, но и был автором его концепции. Кстати, говоря, и Юстиниан, и все его последователи, эти создатели иеротопических проектов, имели перед глазами, в своем сознании величайший образец, а именно самого Господа Бога, который на Синайской горе диктует Моисею, как тот должен сделать Скинию, то есть первый храм.
Пространство Софии Константинопольской
Собственно говоря, Господь Бог выступает первым создателем, первым великим художником, создающим проект сакрального пространства, причем прописывающим его во всех подробностях и деталях. Перед нами возникает еще такая замечательная перспектива – выявить целый пласт великих художников, которых мы потеряли. Конечно, во многих случаях мне могут возразить, что эта иеротопия происходила стихийно. Да. Но, как правило, за этими проектами…
Д.И.: Вы говорите – да. То есть вы верите, что может быть стихийная иеротопия?
А.Л.: Несомненно, но поскольку это некая базовая форма творчества, поскольку все мы, так или иначе, занимаемся иеротопией, даже и не думая об этом, не имея в сознании понятия об этой форме творчества, конечно, возможен и некий стихийный процесс. Во многих случаях в основе была концепция, которая рождалась в головах как образ пространства, никак материально не зафиксированный. Это была образ-идея, возникающая в голове. А потом воплощалась в тех материальных формах, которые имелись в распоряжении создателя. Будь то архитектура, изображение, запахи, звуки, световые эффекты и так далее.
А.К.: Расскажите по поводу псевдоиеротопических всяких штуковин – на Западе, а может, и у нас. Если я правильно понял – это такой слепок, но уже без смысла, только форма осталась…
А.Л.: Нет, почему же, со смыслом. Но с другим смыслом, отнюдь не сакральным.
Б.Д.: В каком-то смысле рок-концерт – это тоже иеротопия с некоторым своим смыслом, запахами, светом.
А.Л.: Классическая иеротопия, которая использовала, причем сознательно использовала, какие-то средневековые моменты, – это знаменитые фашистские парады, которые они устраивали в Нюрнберге. Шествие с огнями, с разными другими эффектами – это некое единение власти и народа, так сказать, лидера и толпы. Когда лидер выступал даже не просто царем, а полубогом. Это, конечно, использование формальных моделей, которые наполнялись новым и совершенно чуждым смыслом. Не про Бога, а прямо наоборот. Очевидно, тут и какие-то параллели с первомайскими демонстрациями, когда, так сказать, народ радостно несет портреты членов Политбюро, как некие новые иконы. Видимо, это такие паллиативы, которые вполне сознательно вырабатывались: вынималась некая формальная структура, и эта формальная структура наполнялась совершенно другой начинкой. То есть внешне очень похоже…
Д.И.: Чтобы была полна духовная жизнь советского народа?
А.Л.: Ну да, некая такая замена духовной жизни.
А.К.: Как удивительно, а сейчас то же самое на Западе происходит – замена начинки.
Б.Д.: А в чем? Какие примеры?
А.К.: Гей-парады, за которые все время борются.
Б.Д.: Но они все-таки содержательные.
А.К.: Конечно, содержательные. Еще как!
А.Л.: Ну, гей-парады – это такое традиционное театральное действо, карнавал.
Д.И.: Карнавал тоже, конечно, имеет отношение к иеротопиям.
А.Л.: Здесь тоже вот эта иеротопическая составляющая до определенной степени может быть измерена. А есть какие-то явления, где она крайне низка или полностью отсутствует, а есть, где этот уровень или градус иеротопии достаточно высокий.
Д.И.: А как это может быть измерено?
А.Л.: Измерено – я имею в виду, почувствовано, что еще очень важно. Я всегда подчеркиваю, что это не связано с формальным статусом здания как сакрального. Я привожу такое сравнение. Есть два огромных храма: Храм Софии Константинопольской в современном Стамбуле, в Константинополе Византии в прошлом. И, например, храм Христа Спасителя в Москве. И тот и другой – храмы, и в том и другом много общего: огромный купол, золото, мозаики, мраморные инкрустации. Но если мы говорим о иеротопии, об этом живом сакральном пространстве, то мы видим, что это несопоставимо. В одном случае – гениальное произведение всех времен и народов, я имею в виду храм Софии Константинопольской – насыщенное сакральными смыслами и без всяких каких-то внешних моментов. А в другом случае – холодное идеализированное здание, которое некоторые сравнивают с аэродромом по степени его духовной наполненности. Хотя София Константинопольская сейчас вообще не храм, а музей. Еще в начале 1930-х годов это была мечеть. Казалось бы, формально это не сакральное пространство, но реально оно сакрально и насыщено глубочайшими смыслами – и сакральными, и высокохудожественными. Это пример гениального иеротопического творчества. И другой, действующий храм, который позиционируются как главный храм страны, в котором уровень реального духовного пространства, иеротопии, крайне невысок.
А.К.: Может, набежит, надышим? Или вряд ли?
А.Л.: Покойный патриарх Алексий II говорил по поводу этого нового храма Христа Спасителя: еще не намолено. То есть он это тоже прекрасно чувствовал, просто формулировал в несколько других словах. Честно говоря, мне кажется, что вряд ли.
А.К.: Посмотрим.
Б.Д.: Я вспомнил, кстати, характерную для западной или не только для западной цивилизации, такую квазидуховную квазииеротопию. Это, конечно, спортивные соревнования, чемпионаты мира, олимпиады.
А.К.: Ты святое-то не тронь.
Б.Д.: Вот я об этом и говорю. Это совершенно иное пространство.
Д.И.: Нет, чемпионат мира – это социальное пространство, это соревнование между людьми.
А.Л.: Там, что очень важно, нет иконического, нет вот этого образа посредника.
Б.Д.: Поэтому я и говорю, что это «анти».
Д.И.: Представь себе, что мы живем тысячу лет. Когда-нибудь потом, через две тысячи лет или четыре, мы с сегодняшним чемпионатом мира по футболу от гладиаторских боев будем почти неотличимы.
А.К.: Абсолютно. Это будет одна и та же какая-то история.
Д.И.: Соревновательная, а там нет духовности. Это соревнования между людьми, то есть чисто социальная вещь.
А.Л.: Там нет «анти». Там не про Бога, а «анти» – это когда против Бога. А там не про Бога вообще. Там про тело, там про другое.
Д.И.: Конечно, это соревнования, достижения. Люди соревнуются между людьми, не перед Богом ратуют, а соревнуются между собой. Это другая вещь.
А.К.: Конечно.
Спасибо большое. Алексей Михайлович Лидов был гостем проекта «Наука 2.0» две недели подряд. Историк искусства и византолог, основатель и директор Научного центра восточно-христианской культуры, замдиректора по науке Института мировой культуры МГУ. Алексей Михайлович, спасибо вам большое.
А.Л.: Спасибо вам. Всего доброго.
Интернет-адрес этой лекции
http://polit.ru/article/2010/11/02/lidov/
Полный список лекций и интервью А. М. Лидова со ссылками здесь:
http://hierotopy.ru/ru/?page_id=288
ИМК МГУ,
академик Российской академии художеств (с 2012 г.)
Curriculum Vitae
Историк и теоретик искусства, византолог. Академик Российской академии художеств. Основатель и директор научного Центра восточнохристианской культуры. Окончил отделение истории и теории искусства МГУ (1981), специализировался в области византийской иконографии и истории восточнохристианской художественной культуры. А.М. Лидов является автором более 80 научных работ, опубликованных на русском, английском, французском, итальянском, испанском, греческом и японском языках, среди них - 20 книг (монографий, каталогов выставок, тематических сборников статей). А.М. Лидов - автор и руководитель инновационных научных проектов, посвященных изучению содержательных основ восточнохристианской культуры. Начиная с 1991 г. им были организованы в Москве международные симпозиумы и издана серия тематических сборников статей, в которых А.М. Лидов выступает как автор концепции, редактор-составитель и исследователь: «Иерусалим в русской культуре» (М., 1994), «Восточнохристианский храм: литургия и искусство» (СПб., 1994), «Чудотворная икона в Византии и Древней Руси» (М., 1996), «Иконостас: происхождение - развитие - символика» (М., 2000), «Восточнохристианские реликвии» (М., 2003), «Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси» (М., 2006), «Новые Иерусалимы. Перенесение сакральных пространствв христианской культуре» (М., 2006) и «Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств» (М., 2009). В исследованиях внимание концентрируется на новых темах и оригинальной методологии, во многих случаях приоритетных в современной науке. А.М. Лидов читал лекции и работал в качестве приглашенного исследователя в крупнейших университетах и научных центрах мира, среди них - Принстон и Гарвард, Оксфорд и Кембридж, Сорбонна и Токийский университет. В качестве автора концепции и куратора он участвовал в подготовке важных выставок в России и Западной Европе. Два проекта «Христианские реликвии в Московском Кремле» и «Спас Нерукотворный в русской иконе» были осуществлены в рамках инициированной А.М. Лидовым комплексной научно-культурной программы «Христианские реликвии», результатом которой стали не только сами выставки, международные конференции и пять опубликованных книг, но и появление в отечественной науке новой сферы исследований. Изучение храмовой иконографии, чудотворных икон и реликвий позволило А.М. Лидову разработать теорию иеротопии, рассматривающей создание сакральных пространств как особую форму творчества и новую область историко-художественного исследования, не ограничивающуюся проблематикой византийской и древнерусской культуры. Это направление исследований нашло отражение в авторской монографии «Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре» (М., 2009).
Основные публикации
Монографии, тематические сборники, каталоги выставок
- автор-сост. Средневековые фрески Грузии / научный каталог выставки. М., 1985
- The Mural Paintings of Akhtala. Moscow 1991
- ред.-сост. (совм. с А.Л. Баталовым), Иерусалим в русской культуре. М., 1994
- ред.-сост., Чудотворная икона в Византии и Древней Руси М., 1996
- ред.-сост., Иконостас: происхождение-развитие-символика. М., 1999.
- автор, Византийские иконы Синая. М. -Афины, 1999
- автор-сост. (совм. с Г.В. Сидоренко), Чудотворный образ. Иконы Богоматери в собрании Третьяковской галереи. М., 1999
- ред.-сост., Христианские реликвии в Московском Кремле. М., 2000
- ред.-сост., Восточнохристианские реликвии. М., 2003
- автор (совм. с Л.М. Евсеевой и Н.Н. Чугреевой). Спас Нерукотворный в русской иконе. М., 2005
- ред.-сост., Реликвии в Византии и Древней Руси. Письменные источники. М., 2006
- ред.-сост., Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М., 2006 скачать содержание
- автор-сост., Косово. Православное наследие и современная катастрофа. М., 2007
- ред.-сост., Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств. М, 2008
- ред.-сост., Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. М., 2009
- ред.-сост., Пространственные иконы. Текстуальное и Перформативное. М., 2009
- автор, Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. М., 2009
Избранные статьи
- Образ Христа-Архиерея в иконографической программе Софии Охридской // Византия и Русь. М., 1986
L’Image du Christ-prelat dans le programme iconographique de Sainte Sophia d’Ohride // Arte Cristiana, fasc. 745. Milano, 1991, p.245-250 - Иерусалимский кувуклий. Опроисхождении луковичных глав // Иконография архитектуры. М., 1990
- L’art des Armeniens Chalcedoniens // Atti del Quinto Simposio Internazionale di Arte Armena 1988, Venezia 1992, pp.479-495
- Христос-священник в иконографических программах XI-XII веков/ Византийский Временник, 55 (1994), 187-192
Christ the Priest in Byzantine Church Decoration of the Eleventh and Twelfth Centuries // Acts. XVIIIth International Congress of Byzantine Studies. Selected Papers. Moscow,1991. Vol.III: Art History, Architecture, Music. Shepherdstown, WV, 1996, pp.158-170 - Образ Небесного Иерусалима в восточнохристианской иконографии // Иерусалим в русской культуре / ред.-сост. А.М. Лидов, А.Л. Баталов. М., 1994
Heavenly Jerusalem: the Byzantine Approach // The Real and Ideal Jerusalem in Art of Judaism, Christianity and Islam. Jerusalem, 1998, pp.341-353 - Схизма и византийская храмовая декорация // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 1994
Byzantine Church Decoration and the Schism of 1054 // Byzantion, LXVIII/2 (1998), pp.381-405 - О символическом замысле скульптурной декорации Владимиро-Суздальских храмов XII-XIII веков // Древнерусское искусство. Византия, Балканы, Русь. XIII век. Москва,1996, 172-184
- Чудотворные иконы в храмовой декорации. О символическрй программе императорских врат Софии Константинопольской //Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 1996, 44-75
- Иконостас: итоги и перспективы исследования // Иконостас: происхождение-развитие-символика / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 1999
- Византийский антепендиум. О символическом прототипе высокого иконостаса // Иконостас: происхождение-развитие-символика / ред.-сост. А.М. Лидов. М.,1999
- Образы Христа в храмовой декорации и византийская христология после Схизмы 1054 года // Древнерусское искусство. Искусство Византии и Древней Руси. К столетию А.Н. Грабара (1897-1997). СПб., 1999
- Реликвия как икона в сакральном пространстве византийского храма // Реликвии в культуре и искусстве восточнохристианского мира / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2000
Священное пространство реликвий // Христианские реликвии в Московском Кремле / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2000 - Miracle-Working Icons of the Mother of God // Mother of God. Representation of the Virgin in Byzantine Art / ed. M. Vassilaki. Athens, ‘Skira’, 2000, pp.47-57
- Мандилион и Керамион как образ-архетип сакрального пространства // Восточнохристианские реликвии. М., 2003
- The Flying Hodegetria. The Miraculous Icon as Bearer of Sacred Space // The Miraculous Image in the Late Middle Ages and Renaissance / ed. E. Thuno, G. Wolf. Rome, 2004
- Leo the Wise and the Miraculous Icons in Hagia Sophia // The Heroes of the Orthodox Church. The New Saints, 8th to 16th century / ed. E. Kountura-Galaki. Athens, 2004
- Богоматерь Фаросская. Императорский храм-реликварий как константинопольский Гроб Господень // Византийский мир. Искусство Константинополя и национальные традиции. М., 2005
- Святой Мандилион. История реликвии // Спас Нерукотворный в русской иконе. М., 2005
- The Canopy over the Holy Sepulchre: On the Origins of Onion-Shaped Domes // Jerusalem in Russian Culture. New York, 2005
- The Miracle of Reproduction. The Mandylion and Keramion as a paradigm of sacred space // L’Immagine di Cristo dall’ Acheropiita dalla mano d’artista / ed. C. Frommel & G. Wolf. Citta del Vaticano. Rome 2006
- Иеротопия. Создание сакральных пространств как форма творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси Иеротопия / ред.-сост. А.М.Лидов. М., 2006
- Пространственные иконы. Чудотворное действо с Одигитрией Константинопольской // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси Иеротопия / ред.-сост. А.М.Лидов. М., 2006
- Святой Огонь и перенесение Новых Иерусалимов: иеротопические и искусствоведческие аспекты // Новые Иерусалимы. Перенесение сакральных пространств в Византии и Древней Руси / ред.-сост. А.М.Лидов. М., 2006
- «Il Dio russo». Culto e iconografia di San Nikola nell’antica Russia // San Nicola. Splendori d’arte d’Oriente e d’Occidente / ed. M. Bacci. Milano 2006
- Реликвии Константинополя Нерукотворные образы в Византии // Реликвии в Византии и Древней Руси: письменные источники. М., Прогресс-Традиция, 2006, с.167-173.
- Гроб Господень в Иерусалиме // Реликвии в Византии и Древней Руси: письменные источники. М., Прогресс-Традиция, 2006, с.247-252.
- Нерукотворные образы в Византии // Реликвии в Византии и Древней Руси: письменные источники. М., Прогресс-Традиция, 2006, с.277-285.
- Новые Иерусалимы. Создание образов Святой земли как основа христианской культуры // Новые Иерусалимы. Перенесение сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М., Индрик, 2006, с. 13-16.
- Byzantine hierotopy: the creation of sacred spaces as a subject of cultural history // Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies. Vol.II: Abstracts of Panel Papers. London, 2006, p. 210-212
- The Creator of Sacred Space as a Phenomenon of Byzantine Culture // L’artista a Bisanzio e nel mondo cristiano-orientale / ed. M. Bacci. Pisa: Scuola Normale Superiore 2007
- Holy Face, Holy Script, Holy Gate: Revealing the Edessa Paradigm in Christian Imagery //Intorno al Sacro Volto / Ed. A.R. Calderoni, C. Dufour Bozzo, G. Wolf. Firenza, 2007
- Святой Лик-Святое Письмо-Святые Врата. Образ-парадигма «благословенного града» в христианской иеротопии // Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2008
- Катапетасма Софии Константинопольской. Византийские инсталляции и образ-парадигма иконной завесы // Лазаревские чтения. Искусство Византии, Древней Руси, Западной Европы. М., 2008
- О константинопольском прототипе царского храма // Царский храм. Благовещенский собор Московского Кремля в истории русской культуры. М., 2008, с.7-42
- The Mandylion over the Gate. A mental pilgrimage to the holy city of Edessa // Routes of Faith in the Medieval Mediterranean. Thessaloniki, 2008, pp.179-192
- ‘Image-Paradigms’ as a Notion of Mediterranean Visual Culture: a Hierotopic Approach to Art History // Crossing Cultures. Papers of the International Congress of Art History. CIHA 2008. Melbourne, 2009, pp.177-183
- Икона-завеса. Образ-парадигма как новое понятие истории культуры // Forma formans. Studi in onore di Boris Uspenskij, I. Napoli, 2010,265-275
Которая очень любит выдумывать умные слова. Правда, употребляет она их в основном по одному разу - не все приживаются даже у автора, наверное. А вот питерский искусствовед Алексей Лидов выдумал, наверное, только одно слово, но зато уж разрабатывает его (или им - слово, оно же и месторождение, и инструмент) основательно. "Иеротопия" от слов "иерос - священный - и "топос" - пространство. То есть иеротопия это создание священных пространств, не в мистической его части - мистика это не предмет науки или искусствоведения - а в самом что ни есть практическом художественном и даже инженерном плане:
сакральное пространство - это среда, созданная человеком для общения с высшим миром.
Целые формы творчества не получили своего места в науке и практически не описывались именно из-за отсутствия иеротопического подхода, не связанного с позитивистской классификацией предметов. К примеру, такое огромное явление как драматургия света оказалась вне границ традиционных специальностей, прямо не попадая в контекст ни истории искусства, ни этнологии, ни литургики. При этом мы точно знаем из письменных источников (например, византийских монастырских уставов), насколько детально разрабатывалось система световозжиганий, динамически менявшаяся в процессе богослужения. В определенные моменты свет выделял отдельные изображения или священные предметы, организуя восприятие как всего храмового пространства, так и логику прочтения его наиболее значимых элементов. Справедливо употребить слово драматургия, поскольку художественно-драматическая составляющая в этом творчестве была ничуть не меньше обрядово-символической.
Сказанное относится и к сфере создания запахов, предполагающей каждый раз особое сочетание каждений, благоухания восковых свечей и ароматического масла в лампадах. Каждый участвовавший в православном богослужении знает, какую огромную роль в восприятии храмового пространства играет пахнущий ладаном дым от кадильниц, который то появляется, то исчезает, создавая колеблющуюся призрачную среду, преображающую все видимые предметы и изображения.
До иконоборчества в Св.Софии фигуративных икон не было, что пытались объяснить самыми разными теориями. Согласно одной из них Юстиниан находился под влиянием монофизитов, а монофизиты выступали против икон. Но, одновременно, в других храмах Юстиниана мы видим эти иконные композиции, в том же Сан-Витале в Равенне или базилике Синайского монастыря. Смысл отсутствия фигуративных изображений, по всей видимости, заключался в том, что Юстиниан как автор замысла и его мастера-архитекторы Анфимий из Тралл и Исидор из Милета, выдающиеся инженеры-оптики своего времени, сознательно хотели создать храм, который не предполагал бы вообще никаких плоских изображений. Храм, где основным выразительным средством был свет, показанный в сложнейшей драматургии.
Речь идет о сложнейшей системе естественного света, который потрясает воображение даже современных инженеров-оптиков. За счет системы зеркальных отражений создавалась живая меняющаяся и невероятно насыщенная световая среда внутри храма. Приведу вам только один из самых впечатляющих примеров. Анфимий Тралл и Исидор из Милета разработали для первого купола Софии Константинопольской, который был существенно более плоский, чем тот купол, который мы видим сейчас, систему отражений. То есть они использовали окна в барабане и нижней части как рефлекторы, которые отражали свет в купол, причем, и это было самое важное, отражали свет ночью. Когда не было никакого солнечного света, они отражали свет звезд и луны таким образом, что ночью в Софии Константинопольской возникал эффект постоянно светящегося купола. То есть в куполе постоянно висело облако света, одновременно зримо представляя известнейший библейский символ, так называемую DOXA (слава) - Господь является людям в виде светового облака.
Существовала и сложнейшая система искусственного света, который сейчас реконструируют по разным археологическим остаткам. Речь идет об изысканной световой среде, полной отражений за счет мраморных инкрустаций, золотых мозаик, серебряной утвари. Если обобщить результаты последних исследований, то в этом огромном храме, шедевре не только средневековой, но и позднеантичной архитектуры, на мой взгляд, самом великом архитектурном сооружении всех времен и народов, создавалась пространственная икона, как бы написанная светом. При этом икона принципиально перформативная, то есть существовавшая в постоянной изменчивости, в динамике, не застывавшая никогда. Мало того, что этот идеальный иконный образ был не плоским, а принципиально пространственным. Ну как вы зафиксируете эту световую среду на плоскости? Никак. Никакой фотографией вы ее тоже никогда не передадите. И это очередной вызов для нашего сознания, потому что в нашем представлении, когда мы анализируем явление, оно должно быть плоским и статичным. Это условие для того, чтобы проделывать с ним разные научные манипуляции. То, как это понимали в Византии, то, как должна была выглядеть идеальная икона, - она должна быть принципиально не плоской, а пространственной, и существовать в динамике. Эта среда, этот иконный образ постоянно менялся и был принципиально перформативным.
Эти золотые мозаики играют огромную роль, причем это их качество особое, которое никакие поздние копиисты, в том числе и XIX века, совершенно не способны воспроизвести. Даже блестящие итальянские мастера мозаики XIX века, которые, кстати, довольно много работали на территории Российской империи, в Крыму есть их работы, в других местах. Они были большие мастера, эти итальянцы, но эффекта византийского золота они не чувствовали. Потому что это золото, вы совершенно правы, абсолютно пространственное, оно и изготавливалось таким образом, чтобы свет, проникающий в смальту, отражался от вложенной в эту смальту золотой пластины. Кроме того, если вы посмотрите вблизи, как выложена эта мозаика, то она выложена принципиально неровно. Не далее как сегодня я в очередной раз наблюдал за этим эффектом в Софии Киевской. Знаменитая Оранта, она же выложена на трех уровнях. Грунт, на котором выложена мозаика, он на трех разных уровнях. Мало того, еще и все камушки смальты положены под разным углом. А какой главный эффект создается? Создается эффект живого света. Если вы там постоите, даже какое-то время, перед Киевской Орантой, то вы увидите, что там свет все время меняется, что она этот свет как бы излучает. Вокруг нее постоянно присутствует аура золотого света, и, собственно говоря, это не плоский фон, а пространство, бесконечное Божественное пространство, которое открывается за ней, а она на самом деле не стоит перед этим пространством, а является из этого пространства. Такой основной византийский эффект, и он, кстати говоря, он не до конца еще описан, не до конца еще осмыслен, но это главное природное свойство византийской иконы - нет границы между образом и зрителем. Нет оппозиции образ-зритель, образ реализуется в пространстве перед картинной плоскостью. То есть он принципиально выходит из картинной плоскости в среду общения со смотрящим и присутствующим в храме человеком. И изначально идеальная икона должна быть такой. А в нашем представлении это плоская картинка, раскрашенная условными красками, нагруженная определенным смыслом. И, к сожалению, среди современных иконописцев уже довольно давно практически нет мастеров и художников, способных передать вот эту пространственную природу иконы. В этом огромная проблема именно потому, что они утратили понимание иконного образа как пространственного. Начинаются эти необратимые изменения в сфере иконописания примерно с падения Византии, с середины XV века, а окончательно все это добивает XVI век, который вводит иконописный подлинник. Когда изменяется принципиально процесс создания икон и появляется тот процесс, который мы все знаем и которому учат всех современных иконописцев, абсолютно не византийский. То есть дают некий набор схем - вот тебе схема, переведи ее на доску, а дальше эту схему или прорись нужно раскрасить с тем или иным мастерством. Это совершенно не византийский путь создания образа, это его искажение, которое возникает в XVI веке, утверждается в XVII веке и для нас становится неким стандартом. И именно поэтому эффект мозаики, поразительный и абсолютно пространственный, недоступен даже самым высокопрофессиональным мастерам. Они его не чувствуют, у них этого нет в головах.
Автор выявляет важную особенность иеротопии - непременную пространственность. При этом пространственность это не просто трехмерность - ею занимается скульптура - тут более сложное сочетание и изображений, и самой среды (включая запахи и прочую мудьтимедию), обязательно изменение во времени (благо, естественный свет, да и мерцающий свет свечей это дают всегда), но самое главное - включенность зрителя в это пространство, включенность во многом как актора, действователя. Разумеется, такое смещение точки зрения делает в основном бесполезными традиционные искусствоведческие инструменты:
Наше сознание, наше образование построено на предметоцентричной модели мира, в основе которой стоит предмет, как бы далеко мы от него ни отходили.
Здесь предлагается принципиально иной путь и иная модель – мир, в центре которого существует не предмет, а пространство. Пространство, в свою очередь, организовано при помощи неподвижных частей: предметов, архитектуры, изображений – и подвижных: например, специально организованной среды запахов, света, звуков. Все эти компоненты являлись составными частями в проектах сакральных пространств, созданных конкретными людьми в конкретных обстоятельствах. Слово "конкретных" принципиально, так как речь идет не о чем-то божественно-мистическом. У сюжета сакральных пространств есть и это измерение, но оно находится вне сферы научного изучения, как и вся сфера божественного. Речь идет о том, что создано людьми, их руками и умами в совершенно конкретных исторических обстоятельствах.
Наше представление о той же иконе, как об изображении на плоскости, некой раскрашенной схеме, принципиально неверно с точки зрения истории византийского искусства. Потому что истинная икона в представлении и византийских богословов, и византийских художников-иконописцев – это явление пространственное, это тот образ, который реализуется в пространстве перед картинной плоскостью, в пространстве, которое возникает между зрителем и образом. То же самое мы видим и в византийском храме, где важнейшие образы – это образы, которые возникают между конкретными изображениями с учетом сознания зрителей, с учетом его исторической памяти и множества других эффектов, таких, как драматургия света, которая играла колоссальную роль в византийской традиции. Самый яркий пример – это главный византийский храм София Константинопольская, где изначально по замыслу императора Юстиниана вообще не было иконных изображений. Собственно, икона как образ Бога, создавалась при помощи сложнейшим образом организованного света. При этом тут была задействована и виртуозная оптика, которую практически реализовывали два крупнейших математика-инженера своего времени – Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. И живой свет многочисленных светильников, и рефлексирующий свет от серебряной утвари, от мраморной инкрустации и золотых мозаик – все это было продумано и организовано как единый художественный образ.
Вся наша система, все наше образование, все наши инструменты – они все принципиально текстуальны. Это проблема, с которой я постоянно сталкиваюсь и при анализе иеротопических явлений. Ведь мы пытаемся анализировать эти явления языком, который был создан и разработан для совершенно другой культуры. И когда мы говорим о перформативных вещах, это очень близко. Есть какие-то очень простые пути выхода из этой проблемы. Например, в наших конференциях, в том числе в конференции по иеротопии, по Новым Иерусалимам, некоторые авторы уже, например, активно используют в качестве иллюстрации не слайды, а видеосъемку каких-то процессий, компьютерные программы. Это конкретно в каждом случае. Но здесь, мне кажется, важно задуматься над вопросом, что есть пласт культуры и культурной информации, которым мы не владеем, он еще не востребован, и что в каком-то смысле идея культуры, понятой как текст, справедлива, она доказала свою эффективность, но она недостаточна. Она не антагонистична, не должна быть отвергнута, но она просто недостаточна. Мы упускаем целые пласты явлений.
В контексте иеротопии пространство не может быть представлено как сколь угодно сложный синтез артефактов, поскольку имеет принципиально иную порождающую матрицу.
Иеротопический подход позволяет выявить эту матрицу, определявшую структурный замысел конкретного пространства, которому были соподчинены все видимые, слышимые и осязаемые формы. Важно осознать, что практически все предметы религиозного искусства изначально задумывались как конституирующие элементы "иеротопического проекта", включенные во взаимосвязанную структуру особого сакрального пространства. Однако за редкими исключениями мы практически не "спрашиваем" художественные памятники об этой родовой особенности, очевидно, многое определившей в их внешнем облике.
Однако принципиальной чертой византийской иеротопии является включение "зрителя" в качестве неотъемлемой составляющей пространственного образа, в котором он становится полноправным действующим лицом, наряду с изображениями, светом, запахом, звуком. Более того, "зритель", обладающий соборной и индивидуальной исторической памятью, определенным духовным опытом и знаниями, в некотором смысле участвует в создании данного пространственного образа.
Наверное, что-то в этом подходе есть продуктивного, но по ходу чтения возникают вопросы:
1. Практически все примеры взяты из искусства Византии. Почему?
- Первый и несколько формальный ответ заключается в том, что автор является специалистом по Византии, эта область ему известна. Ну и основной искусствоведческий инструментарий разработан на искусстве возрождения и более позднего времени, он не работает ни на искусстве древнего Египта, ни на дальневосточном искусстве, вот и на византийском тоже не сработал; потребовался свой инструмент, и вот он - иеротопия.
2. Практически на каждой лекции автора спрашивали - а есть еще примеры иеротопии кроме византийского искусства?
- Да, отвечал автор, есть, в искусстве Японии и Китая, к примеру. Но отвечал без конкретизации, ссылаясь что не специалист. Ну, тут мы ему поможем и найдем что-то похожее у специалистов как раз по Дальнему востоку:
Чествование Конфуция начинается очень рано - в пятом часу утра. Тоже древний обычай, по-своему практичный и мудрый: кто хочет быть здоровым и богатым, должен вставать рано. Аудиенции у императора тоже начинались с рассветом: власть является людям с сиянием дневного светила. А театральные представления могли идти по ночам даже в отсуствие публики, ибо предназначались не людям, а богам. Все дело в том, что в старом Китае представление не отделялось от ритуала, а для церемонии зрители не обязательны. Точнее, участники церемонии являются и ее зрителями, они и действуют, и наблюдают свои действия. Ведь торжественность ритуала проистекает из чувства связи человека с вечным в себе и, следовательно, его связи с усопшими предками и богами, с вечноживым началом во всех людях. Это единение людей и богов, живых и умерших нельзя показать или доказать, о нем можно только свидетельствовать. В сущности, оно удостоверяется опытом таинственной зеркальности бытия, которая дается нам прежде, чем в нас появится сознание собственного "я". В этом опыте абсолютной Встречи никто ничего не передает, но все передается. Ритуал и есть символ такой отсутствующей связи. В нем и благодаря ему жизнь опознается как декорум внутренней правды. Праздник памяти Конфуция или театральное представление (которое в Китае мыслилось не как зрелище, а как игра, чистое действо) могут идти в темноте и без зрителей потому, что удостоверяют нераздельность внутреннего и внешнего в первоначальном, недоступном рефлексии проблеске сознания. Недаром конфуцианская традиция требовала от своих приверженцев устранять дурные мысли прежде, чем они проявятся в уме. "Не делай ничего дурного даже в темноте", - гласит древняя конфуцианская заповедь. (Кажется, до нас она доходит в виде псевдоконфуцианских изречений о трудности поисков "черной кошки в темной комнате").
Владимир Малявин "Тайбэйские шоу: Конфуций на дворе "
3. Опять же на каждой лекции автора спрашивали: а средневековые мистерии - это иеротопия? а фашистските факельные шествия? а первомайские демонстрации? ведь очень эти действа нагружены символическим смыслом.
- Нет, отвечал автор, это не иеротопия, это псевдо-иеротопия. Почему именно псевдо- как-то не очень понятно, вернее нет четких разумных аргументов. С другой стороны, это как в анекдоте про поддельные елочные игрушки - вроде блестят, но не радуют. Наверное, в искусствоведении такой аргумент "от непосредственного восприятия" неискореним (и хорошо, в общем-то). Автор привел самоочевидный пример псевдо-иеротопии - храм Христа-Спасителя. Вроде большой и золота много (как в Византии), но... Полностью с ним согласен - этот храм насквозь фальшив и крайне неприятен. Не знаю, в чем тут дело, но это именно самоочевидное впечатление, не требующее доказательств (хотя вскрытие его механизмов было бы интересно).
4. И, наконец, последнее замечание - непроясненные отношения иеротопии с православной верой автора. В конце последней лекции на прямой вопрос он ответил, что да, православный; в другой лекции он сказал следующее:
Для меня Византия и ее традиция связаны с понятием иконического сознания. Это восприятие мира не как окончательной материальной реальности, а как образа другого мира. Это различие между иконой и религиозной картиной.
Собственно, этот вопрос закольцовывается на первый, а именно: имеет ли смысл понятие иеротопии вне православной мысли? Ясно, что в православии оно находит свое место; но можно ли использовать этот инструмент вне этих религиозных установок? Меня устроил бы любой определенный ответ на этот вопрос, но, похоже, автор не в состоянии на него ответить просто в силу традиционного для русской философии смешения языков:
Наконец, третью особенность языка русской философии можно охарактеризовать как смешение языков. Данный модус высказывания охотно представляется в виде устремленности русской мысли к некоему глобальному синтезу - разума и веры, науки и искусства, философии и политики, познания и жизни. Наиболее отчетливо он проявляется в центральной самохарактеристике русской философии как философии «религиозной». Однако при рассмотрении того, что означают, например, словосочетания «религиозный смысл философии» (Ильин) или «философия как мистикоспекулятивная теософия» (Франк), следует обратить внимание на способ использования того языка или языков, в которых обсуждаются данные проблемы. Это тем более важно, поскольку именно в отношении характеристики философии как религиозной возникали и продолжают возникать проблемы понимания и перевода русской мысли на Западе и наоборот.
С одной стороны, «религиозная философия» отличается от «философии религии» как философской дисциплины с ее специальным комплексом проблем, поскольку эта дисциплина вовсе не связана ни с каким исповеданием веры и может быть даже атеистической. Ее функция - в том, чтобы сделать религию темой философской рефлексии и с помощью языка рациональной мысли прояснить основные категории и структуры религиозного опыта. Когда же, например, Франк или Ильин утверждают, что философия должна быть основана на религиозном опыте, то их замысел оказывается в корне противоположным тому, что именуется «философией религии». Религия оказывается здесь не terminus a quo философского рассуждения, а terminus ad quem, т.е. неоспоримой предпосылкой, а не темой рефлексии.
Николай Плотников "Язык русской философской традиции "
В общем, интересно посмотреть, как будет развиваться это направление искусствоведения - быстро ли оно схлопнется, останется ли чисто византийским инструментом или - кто знает?..
Церковь Святого Николая, Куртя‑де-Арджеш, Румыния, 1352
Фотография (фрагмент): 2010 fusion-of-horizons. Права на публикацию изображения предоставлены автором
Вы придумали науку иеротопию, которая изучает создание сакральных пространств. Зачем для этого понадобилась отдельная дисциплина?
Дело в том, что европейская наука Нового времени потеряла целую сферу творчества, которая ничуть не менее важна, чем творчество литературное, музыкальное или изобразительное. Например, мы знаем, что ребёнок начинает рисовать стихийно. Дальше, если у него это получается хорошо, он поступает в художественную школу, затем получает высшее образование — то есть сложилась традиция, которая делает изобразительное искусство легитимной частью культуры. Однако в отношении сакральных пространств подобной традиции не существует. Хотя в том же возрасте, что и рисовать, ребёнок начинает создавать сакральные пространства как базовую форму коммуникации с другой реальностью. И впоследствии, даже если мы убеждённые атеисты, расставляя фотографии умерших родственников или другие артефакты, актуализирующие нашу память о другой реальности, мы занимаемся сакрализацией бытовой среды. В большинстве случаев неосознанно, однако это один из основополагающих принципов духовной жизни человека. Историки знают, что во всех религиозных традициях сакральная среда, которая создаётся людьми для общения с Богом, — это то главное, вокруг чего собирается мир остальных медиа: и архитектура, и музыка, и запахи. Её общая задача — формировать пространство общения с высшим миром. Эта среда существует как базовая форма духовной жизни человека. Однако позитивистская наука не считала достойным предметом исследования то, что мы не можем потрогать. «Пространство» — и само по себе проблемный сюжет, а уж «сакральное» — тем более находится будто бы за пределами научного знания. Поэтому и понадобилась отдельная дисциплина — иеротопия, которая призвана актуализировать и память об этой традиции, и этот вид творчества как часть современного искусства. Кстати, на мой взгляд, в современном искусстве создание сакральных пространств — одна из самых интересных и перспективных его форм. Но и обращаясь к исторической практике, мы должны признать, что искусство не сводится только лишь к изготовлению материальных предметов. Это кажется очевидным, но, задумавшись, мы убедимся, что история искусства сводится к изучению артефактов и мастеров, которые над ними трудились. Хотя все эти предметы в рамках любой религиозной традиции создавались именно как часть сакрального пространства. К тому же мы упускаем из виду важнейшую фигуру художника, который создаёт концепцию такого пространства.

Сошествие Христа в Ад. Парекклесион (придел) монастыря Хора (Кахрие Джами), Стамбул, Турция, 1315—1321
Кажется, что на ваши методы изучения Византии очень повлияли наработки современного искусства — например, концептуализм с его нематериальным произведением или идея тотальной инсталляции. Верно ли, что современная культура предлагает по‑новому анализировать классический предмет?
Мы живём в эпоху, когда виртуальная реальность заново актуализирует интерес к пространству. Методологию искусствоведения конца XIX века так или иначе определила техника фотографии — то есть техника плоской картинки, а в то время ещё и преимущественно чёрно-белой. Работа всех великих искусствоведов того периода сводилась к тому, что они сопоставляли чёрно-белые картинки. Мне, например, рассказывали, что долгое время зал Ганимеда в римской Библиотеке Герциана был поделен мелом пополам, и в одной половине работал крупнейший знаток христианской и византийской архитектуры Ричард Краутхаймер, а в другой — знаток барокко Рудольф Виттковер. Пол был покрыт чёрно-белыми фотографиями: с одной стороны Краутхаймер ходил над снимками раннехристианской архитектуры Рима, а с другой — Виттковер над фотографиями барочных храмов. Это очень яркий пример технологии, которая определяет сознание. Это парадигма плоской картинки в действии: для того чтобы начать анализировать явление, его нужно было сначала сфотографировать. Только тогда начинала работать методология, которой обучали на факультетах искусствоведения в течение многих десятилетий. Меня, например, совсем не учили работать с пространством. Современному же ребёнку, играющему с гаджетами, плоская картинка скучна. Ему нужно пространство, пусть и виртуальное.

Ставропольский монастырь, Бухарест, Румыния, 1724
Сам я начинал более традиционно — с изучения роли чудотворной иконы и реликвии в истории византийской культуры. Мы были первооткрывателями этой темы в рамках изучения восточного христианства. Главный урок, который я усвоил из этой работы, состоял в том, что основное назначение чудотворной иконы заключается в формировании пространственной среды вокруг себя. А эту среду никто не изучает! Анализируют доски, серебряные ларцы, но никак не сакральное пространство, порождаемое иконой. То есть я открыл для себя предмет исследования, у которого пока не было научного аппарата.
Со временем я вывел понятие «пространственная икона» — это важнейшая форма иеротопического творчества, она реализует себя в пространстве и не сводится к предмету. У него есть главное свойство иконы — быть образом-посредником, то есть образом, который соединяет земной и небесный миры. Многие до сих пор не осознают, что икона — это не раздел религиозного искусства и не подраздел религиозной картины. Религиозная картина иллюстрирует и наставляет, воплощает те или иные идеологемы. Икона — совершенно другой тип образа, её ключевая функция — медиативная. Для византийских памятников это различие принципиально: образ не раскрывается внутри картинной плоскости, он выходит в пространство предстоящего и реализуется между ним и стеной. Это совсем иной тип коммуникации.

Самый простой пример такой коммуникации — православный храм, он весь должен быть осмыслен как пространственная икона. Часто его воспринимают как программный набор картинок, иллюстрирующих библейские сюжеты. Да, поздневизантийская традиция, как и большая часть западной, сводилась к простому пересказу и иллюстрации. Идея прагматичной заземлённости, привязки изображения к тексту доминировала. Однако в классической византийской традиции иллюстративности не было, любой образ включал множество текстов, а каждый храм являл собой образ Небесного Иерусалима, хотя сам Небесный Иерусалим при этом нигде не был изображён.
Многие службы того времени совершались ночью, и в темноте оконные откосы отражали свет таким образом, что казалось, будто в куполе висит светящееся облако. Колеблющийся свет луны и звёзд менял его очертания, оно воспринималось как живое
Зачем понадобился дополнительный термин, если понятие храмового пространства уже и так всё это включает: архитектуру, фрески, свет и всё остальное?
Когда говорят о храме, обычно имеют в виду только архитектуру, и иногда ещё декорацию. Проблематика света долгое время оставалась неразработанной. Учёные знали, что в Софии Константинопольской интересный свет, но вот то, что свет там — самое главное выразительное средство, не осознавали. Ни архитектурный объём, ни фигуративные изображения, которых там до IX века просто не было, а свет, которым и создавался образ Божий. Неслучайно император Юстиниан, не только заказчик, но и создатель этого пространства, приглашает для реализации своего замысла двух выдающихся инженеров-оптиков и математиков — Анфимия из Тралл и Исидора из Милета, — которые и разработали для него удивительную технологическую концепцию репрезентации этого света. Они придумали очень низкий купол и выложили откосы сорока его окон золотой и серебряной мозаикой таким образом, что они работали как отражатели. Многие службы того времени совершались ночью, так называемые всенощные, и в темноте оконные откосы отражали свет таким образом, что казалось, будто в куполе висит светящееся облако. Оно находилось в постоянном движении. Колеблющийся свет луны и звёзд менял его очертания, оно воспринималось как живое. Образ облака и был иконой, он сопрягался с изначальной библейской концепцией представления Бога в виде светящегося облака. Таким способом исполнялась вторая заповедь «Не сотвори себе кумира и никакого изображения». Формировался образ, который не является изображением. Днём люди могли видеть висящие под куполом сто пятьдесят паникадил (это особые плоские люстры); они вращались, то есть создавался ещё и образ вращающегося света. Бесконечные сочетания естественного и искусственного света, рефлексы золотых мозаик, мраморной инкрустации, серебряной литургической утвари, алтарной преграды и амвона производили на посетителей колоссальное впечатление.

Купол нартекса с фрагментами мозаики, церковь Христа Спасителя, монастырь Хора (Кахрие Джами), Стамбул, Турция, 1315—1321
Фотография (фрагмент): 2015 fusion-of-horizons. Права на публикацию изображения предоставлены автором
Давайте представим, что увидели послы князя Владимира в Софии Константинопольской, когда происходил выбор веры для Руси? Летопись сообщает нам, что они были потрясены: мы не знали, говорили они, на небе мы или на земле, и нигде не видели красоты такой. До того они побывали в Риме и могли видеть там роскошные протороманские базилики. Однако потрясла их именно византийская пространственная икона, где доминирующим художественным средством был свет, но не только он.
А что ещё?
Ещё, например, была среда запахов, которая организовывала движение прихожан по храму, и это тоже древнейшая традиция, до последнего времени не имевшая своих исследователей. Это было важное средство коммуникации, развившееся до изощрённейших форм в Ветхозаветном храме, с одной стороны, и в римских императорских ритуалах — с другой. Всё это было унаследовано Византией. Движение в храмовом пространстве осуществлялось в зависимости от интенсивности и разнообразия каждений — как и в ритуальном пространстве императорского Рима. Каждый запах соответствовал своему уровню сакральности, и вместе они, как и свет, составляли определённую драматургию. То, что мы сейчас видим во время православных богослужений, — это далёкое отражение вот этой практики. Она стала на несколько порядков более простой и менее осознанной, но отголоски прочувствовать можно. Некоторые части современного богослужения можно прочитать по законам произведений актуального искусства. Например, в начале утренней литургии свет солнца, встающего на востоке, попадает в храм через алтарное окно. В это время уже совершаются каждения, дым клубится и на него падает свет, так что мы видим, как облако света выходит из алтаря к верующим. Это действо завораживает, воспринимается как откровение, соответствуя древнееврейским представлениям о Боге как светящемся облаке, но эта же практика соединяет нас и с перформативными образами Софии Константинопольской. Впрочем, насколько мне известно, никто из нынешних священнослужителей об этом не задумывается.
Чтобы воссоздать образ Небесного Иерусалима, использовались и архитектура, и изображения, и световая драматургия, и обрядовая часть, и среда запахов. Поэтому медийное сходство между древними византийскими памятниками и нынешним искусством поразительно
Обнаруживаете ли вы сходство византийских практик с работами ХХ века — перформативными произведениями, часовней Марка Ротко или церковью Дэна Флавина?
На уровне медиа это действительно очень похоже. Поначалу, когда я говорил коллегам, что византийский храм устроен по типу мультимедийной инсталляции, это вызывало оторопь и возмущение. Однако принципы медиа именно таковы. Если их не учитывать, храм будет восприниматься как музей, и вести себя там человек станет соответственно: разглядывать картинки на стенах, искать знакомые сюжеты. Однако первоначальный замысел поведения посетителя храма совершенно иной. Вошедший должен ощутить себя внутри Небесного Иерусалима, в пространстве не вполне земном и не вполне небесном, в пространстве-посреднике. Храм существует именно ради этого. И чтобы воссоздать образ Небесного Иерусалима, использовались все средства коммуникации: и архитектура, и изображения, и световая драматургия, и обрядовая часть, и среда запахов. Поэтому медийное сходство между древними византийскими памятниками и современным искусством поразительно, хотя они совершенно не связаны исторически или символически. Когда я рассказываю об этом современным художникам, они бывают удивлены тем, что неосознанно пытаются повторить уже созданное тысячу лет назад. С другой стороны, глупо было бы сравнивать современное искусство с Софией Константинопольской с точки зрения качества: почти всё, что создано в мире, проиграло бы ей на всех уровнях. Не считайте меня слепым фанатиком Византии, но это объективно так: в ней был такой уровень богатства, глубины, интеллектуальных и духовных возможностей, что рядом поставить нечего. Даже современные путешественники в Стамбуле, заходя в ободранную и униженную Софию, получают колоссальное впечатление. И при всём этом мне очень нравится капелла Ротко — один из главных шедевров ХХ века.



Часовня Ротко, Хьюстон, США, 1971
Вид интерьера, северо-западная сторона
Фотография: (c) Hickey-Robertson. (c) Rothko Chapel
Дэн Флавин. Без названия, 1997
Световая инсталляция. Флуоресцентные лампы синего, красного, жёлтого и фиолетового цвета. Вид постоянной экспозиции в церкви Санта-Мария Аннунциата, Милан
Фотография: (c) Paola Bobba. (c) Fondazione Prada



Из эффектов глубоко византийских по сути можно ещё вспомнить работы Билла Виолы. Я с ним много общался и говорил в том числе про иеротопию, он был рад узнать об этой теории, поскольку стремится к очень похожим целям: пространственным образам, которые не сводимы к плоской картинке. И как раз из‑за своей приверженности идее сакрального он бывает страшно неудобен некоторым современным кураторам. Хотя он происходит из католической традиции, значительную часть своей жизни Виола прожил в Японии; он был под большим впечатлением от дзен-буддизма и не настаивает на сугубо христианском прочтении своих сюжетов.
В общем, для современного искусства эти пространственные поиски Византии оказываются гораздо более актуальными, чем станковая живопись поствозрожденченской эпохи. Однако большинство художников ничего об этом не знают — они ищут в том же направлении, но вслепую. И ещё одна проблема состоит в том, что хотя направление мультимедийных поисков совпадает, духовного содержания там уже нет.
Возможно, это знание получено опосредованно? Ведь Запад вывез Византию из Четвёртого крестового похода, а драматургия света готического собора всегда будет частью сознания и мировосприятия западного человека.
Знаете, вы это правильно вспомнили. Когда я читал записи аббата Сугерия, создателя первого готического собора в Сен-Дени, меня поразило, что, оказывается, он был выдающимся мастером иеротопии. Он создал новую концепцию сакрального пространства, где присутствовало ощущение неба на земле. И знаете, что он упоминает как образец и источник вдохновения? Софию Константинопольскую! Для меня это в своё время стало откровением. Он писал: «Я спрашивал людей, которые видели храм Гроба Господня и Софию Константинопольскую, и они подтверждали, что-то, что я сделал, — похоже». Замечательно, что при полном внешнем несходстве там в самом деле есть сходство на уровне иеротопической концепции. Из этой световой среды, которую Сугерий придумал, потом вышла вся готика. Поразительно, но об этом сейчас никто не вспоминает.

Родословие Христа. Купол нартекса, церковь Христа Спасителя, монастырь Хора (Кахрие Джами), Стамбул, Турция, 1315—1321
Фотография: 2015 fusion-of-horizons. Права на публикацию изображения предоставлены автором
Давайте вернёмся к пространственным иконам.
Они возникают как некое видение в пространстве и принципиально отличаются от плоской картинки. Они могут иллюстрировать конкретный текст, но при этом полны ассоциаций из самых разных текстов. Византийцам казалось, что свести образ Небесного Иерусалима к иллюстрации Апокалипсиса — это его профанировать и обеднить. Они очень боялись простых и очевидных смыслов, иллюстраций. Ещё один мой термин, важный и для современного искусства, — «образ-парадигма», то есть образ, который принципиально не сводится к иллюстрации. Он визуален и тем не менее не иллюстративен. Небесный Иерусалим, который воплощается всем храмовым пространством, но нигде не изображён, как раз и есть такой образ. Образы-парадигмы можно найти и в текстах. Часто византийскую литературу упрекают в примитивности по сравнению с западной: дескать, она уступает литературе Нового времени. Во многом это связано с тем, что мы просто не умеем её читать. Мы не владеем этим типом коммуникации. Мы его утратили. И потому смысл искусствоведческой науки сейчас и сводится, грубо говоря, к тому, чтобы найти текст, объясняющий ту или иную картинку.
Вы писали, что открытием прямой перспективы Ренессанс перестроил физиологию нашего зрения, и мы стали видеть мир иначе. Действительно ли у византийцев зрительное восприятие так сильно отличалось от нашего?
Не возьмусь говорить о физиологии зрения, но то, что они видели мир принципиально иначе, для меня совершенно очевидно. Прямая перспектива — рабочий инструмент группы художников, живших в ренессансной Италии. Они придумали для себя, если хотите, такую игрушку — новый инструмент, чтобы рассказывать о мире. А потом уже это стало реальным способом восприятия: все стали видеть мир при помощи прямой перспективы. И образованный человек, знающий, что по мере удаления предмет уменьшается в размерах, подходил к иконе и понимал, что она построена совсем не так, как фреска Паоло Уччелло. Неправильно, как ему казалось, построена. В какой‑то момент целый ряд очень умных и тонких людей, как, например, отец Павел Флоренский, осознали, что прямая перспектива как способ видения мира была навязана западноевропейской цивилизацией. Пытаясь объяснить, что это неправильно и неприложимо к древней иконе, они придумали теорию обратной перспективы. В своё время эта тематика была очень модной. Однако, на мой взгляд, никакой обратной перспективы никогда не существовало, византийцы просто видели иначе. И сейчас пришло время в этом разобраться, обогатив не только историю искусства, но и современную художественную практику.

Собор Святой Софии, Стамбул, Турция, 532—537
Фотография: 2015 fusion-of-horizons. Права на публикацию изображения предоставлены автором
То есть иконописцы, работавшие до XVI века, писали мир таким, каким видели, а все последующие авторы, стало быть, воспринимали его иначе, но почему‑то в иконах продолжали воспроизводить картину мира предыдущей эпохи, в которую уже сами не верили?
В XVI веке произошла реформа иконописания, столь же радикальная, сколь и не осознанная современниками и самими художниками. Иконописцы считали, что следуют истинно византийским путём создания священных образов, в то время как византийский подход кардинально изменили. У меня часто спрашивают, почему в залах Третьяковской галереи доходишь до XVI века и попадаешь в другой мир? Что произошло? Дело в том, что с падением Константинополя был утрачен главный художественный центр, и спасти его художественное наследие решили путём унификации всей системы изображений. Так появился «иконописный подлинник», то есть набор прорисей и схем, которые даются художнику, чтобы по этим лекалам он создавал свою работу. Казалось бы, это нечто прикладное. Однако это прикладное меняет сам принцип византийского иконотворчества. Никогда в Константинополе икона не могла быть раскрашенной схемой, об этом невозможно даже помыслить. У нас есть, например, письмо Епифания Премудрого о том, как Феофан Грек работал в Кремле в начале XV века. Он не просто не пользовался никаким иконописным подлинником, он создавал радикально новые образы Троицкого придела церкви Спаса-на-Ильине в Новгороде и вообще никуда не смотрел, все образцы были у него в голове. Идея, что икону можно не сотворить, а взять из одобренной церковью книжки, разрушает базовый принцип и превращает икону в плоскую картинку. Уходит её пространственная составляющая. Это легко заметить, когда мы смотрим на попытки имитации стиля. Очевидно, что ни один современный живописец не способен создать что‑либо, что можно было бы поставить рядом с иконами Звенигородского чина, приписываемыми Андрею Рублёву. А вот имитировать манеру Дионисия — уже возможно. Манеру XVI—XVII вв. еков — легко, и делают это очень профессионально. Ушла суть иконы как пространственного образа-посредника, а сделать внешнее подобие — просто.




Билл Виола. Мученики (Вода), 2014
Видеоинсталляция, 140 x 338 см, 7"15"". Правая часть полиптиха. Вид постоянной экспозиции в Соборе Святого Павла, Лондон
Билл Виола. Мученики (Огонь), 2014
Видеоинсталляция, 140 x 338 см, 7"15"". Центральная часть полиптиха. Вид постоянной экспозиции в Соборе Святого Павла, Лондон
Билл Виола. Сон разума, 1988
Вид экспозиции Grand Palais
Фотография: (c) Didier Plowy. (c) 2014 RMN — Grand Palais
Билл Виола. Вуаль (деталь), 1995
Видеоинсталляция, 3500 x 6700 x 9400 см
Частная коллекция. Фотография: (c) Roman Mensing. (c) Bill Viola




Получается, ко времени Петра Великого все византийские смыслы были растеряны, и когда он издавал свои указы, отменявшие придворные ритуалы, опиравшиеся на византийские практики, никто уже не знал, зачем они нужны?
Да, не знал. Пётр видел в них ещё и вредную идеологическую составляющую. Например, знаменитое «Шествие на осляти» в Вербное воскресенье состояло в том, что патриарх сидел на кобыле, которую вёл под уздцы русский царь, чем подчёркивалось духовное превосходство патриарха, воплощающего иконический образ Спасителя. Петра эта идея, по‑видимому, раздражала. Он все эти иконические обряды ликвидировал. В это же время кардинально изменился облик православных храмов. До XVII века они были увешаны огромным количеством тканей, и по стенам, и в иконостасе. Церкви напоминали ветхозаветную скинию — тканый шатёр. Ткани составляли часть перформативного действа, поскольку постоянно менялись в зависимости от дней литургического года. А вот в эпоху Петра ткани убрали из соборов, и остались голые стены с иллюстрирующими картинами, которые видим мы сейчас.
Мало кто понимает, что раньше изображения на почитаемых иконах были практически недоступны взору. Были скрыты не просто за окладами, но за целой системой украшений, в которую входили и самые разные ткани, и надыконные, и подыконные пелены. На иконе Владимирской Богоматери была видна лишь маленькая часть лика, и на момент её изъятия из Успенского собора Кремля этот участок был под пятью более поздними записями разных веков. До раскрытия этих записей великого лика не созерцал никто. Однако в своём ковчеге, покрытая окладом и пеленами, пребывала настоящая святыня. В этом была своя иеротопическая идея: икона реализовывала себя как пространственный образ. Формы поклонения незримому образу восходят к великому прототипу, когда иудеи сначала в скинии, а затем в храме Соломона поклонялись Ковчегу Завета, не видя его и не надеясь в своей жизни увидеть. Он пребывал в Святая святых на престоле Господа. К нему мог подойти первосвященник и, не глядя, окропить кровью жертвенного агнца. Однако все знали, что Ковчег находится там, и это очень важно. В Византии была своя традиция невидимых икон, которые вообще никогда не открывались, например древняя икона Богоматери Киккской на Кипре или икона Богоматери Сайданайской в Сирии — самая почитаемая православная икона на Ближнем Востоке. Их изображений сколько угодно, на покровах можно увидеть копии, но не саму икону. Я был и в Киккском монастыре на Кипре, и перед Богоматерью Сайданайской в её монастыре, и должен сказать, что это совершенно особое мистическое ощущение. Весь комплекс духовно-художественных переживаний активируется. На Кипре в окладе сделано маленькое окошечко, через которое православный паломник по особому благословению может приложиться к иконе и почувствовать губами её поверхность. Остальное скрыто окладом и покровами, хранящимися с XIII века (они сейчас в монастырском музее). Мы привыкли к возможности прийти, сфотографировать и тем самым превратить пространственный образ в плоскую картинку. Но когда ты не можешь увидеть святыню, хотя знаешь, что она тут, и можешь к ней приобщиться, обретаешь по‑настоящему мощное духовное переживание.
Икона представляла собой проекцию образа на небесах, но одновременно и деревянную доску, с которой можно было сделать всё что угодно: соскрести краску, сжечь, порубить как любой материальный предмет
Вы как‑то рассказывали про соскребание краски с иконы и поедание её в благочестивых целях. А Аверинцев писал, что византийцы смывали и выпивали чернила самых почитаемых книг, желая приобщиться к мудрости. Современному человеку это слышать дико.
Икона представляла собой проекцию образа на небесах, но одновременно и деревянную доску, с которой можно было сделать всё что угодно: соскрести краску, сжечь, порубить как любой материальный предмет. И всё‑таки она составляет единое пространство с образом на небесах. Для нашего сознания эта идея парадоксальна: мы привыкли разделять материальное и духовное. А для византийца очень важна эта максимальная конкретность и максимальная же идеальность. Так что рациональное осуждение этих, как считается, суеверных практик вроде целования икон, соскребания с них краски и отрубания кусочков, ошибочно. Все формы тактильного общения со святыней — часть глобальной концепции, которую мы уже не понимаем.

Фотография: 2015 fusion-of-horizons. Права на публикацию изображения предоставлены автором
Проекция небесного образа может быть не только деревянной доской, пространственная икона может быть огромной. Например, Новый Иерусалим под Москвой занимает пятьдесят квадратных километров, и это тоже пространственная икона, которую увидел патриарх Никон. По его замыслу река Истра стала Иорданом, появились горы Фавор и Елеон, а сам монастырь был построен как точная копия храма Гроба Господня в Иерусалиме. Над всем этим «ленд-артом» работал хорошо известный нам художник. Пока Никон дружил с царём Алексеем Михайловичем, они эту пространственную икону строили на территории всей России, то есть создавали «Святую Русь» как конкретный проект. Художества соединялись в нём с большой политикой, поскольку рождалось избранное царство, где и произойдёт второе пришествие и чей народ первым войдёт в Царство Небесное. Для сознания людей того времени это была могучая национальная идея и ключевая идеологема, во имя которой многое возможно было совершить. Таким образом, художественный проект приобретал вселенский размах.
А у греческих проектов Екатерины Великой осталось только политическое измерение?
Да, религиозно-смысловая часть оказалась полностью подчинена политической. Воссоздание Византии в Крыму осуществлялось царицей в духе идей XVIII века. Своего внука Екатерина называет Константином потому, что назначает ему стать императором Византии под эгидой Российской империи. Старший её внук Александр, получивший имя в честь Александра Великого, призван править могучей Россией, под крылом которой младший брат возродит греческий мир. К сожалению, эта красивая рациональная концепция не реализовалась, но возник Крым со своими полисами. И там тоже существовала своя иеротопия, не только в проектах, но и в храмостроительстве, только она уже была иллюстративной и прикладной.
Средневековые путешественники в Константинополь захлёбывались слезами восторга, и было от чего: современный Стамбул — убогая деревня по сравнению с великолепием Царьграда
Расскажите о романе французской абсолютной монархии с Византией и о реакции на него просветителей.
История очень простая. Сегодня в общественном сознании доминирует антивизантийский миф. Среднестатистический человек не знает про Византию ничего, эти сведения не входят даже в джентльменский набор интеллигента. Особенно показателен этот факт для России, которая вся из Византии выросла. Как же это произошло? Средневековые путешественники в Константинополь захлёбывались слезами восторга, и было от чего: современный Стамбул — убогая деревня по сравнению с великолепием Царьграда. Всё закончилось с Четвёртым крестовым походом. Разграбив христианскую столицу, Европа испытывала огромный комплекс вины. Сам Папа Римский назвал латинских рыцарей псами и отлучил от церкви. Однако в качестве попытки самооправдания возникло представление о Византии как о коварной и подлой стране, которую следовало покарать. В таком случае и военный поход был справедливым. Стихийная дискредитация Византии тянулась столетиями. Осознанное оформление этой концепции стало заслугой французских просветителей. Сама Византия мало их волновала, но знали они её очень хорошо. Греческая культура и язык были тогда в большой моде. Людовик XIII переводил на французский византийские трактаты. Ришелье, Мазарини и Кольбер собирали греческие рукописи, составившие потом важную часть коллекции Национальной библиотеки в Париже. Издавались труды византийских историков. В XVII веке Византию во Франции знали и любили, поэтому нельзя сказать, что просветители её оболгали от невежества. Их задача была другой: в условиях жестокой цензуры очень трудно было бороться с абсолютизмом и клерикализмом. Поэтому Византию выдумали заново как чучело для битья, чтобы на её примере бичевать современное им государство. Проект оказался невероятно успешным, в него поверили все. Надо понимать, что в те времена Вольтер и Монтескьё были абсолютными властителями дум, их читали во всей Европе. Российская императрица состояла с Вольтером в переписке, обсуждала с ним греческий проект, философ её идею одобрял и давал советы, как восстанавливать Византийскую империю. И параллельно в других сочинениях называл ту же империю «ужасной и безвкусной» (это Византию‑то!). Монтескьё сформулировал ещё жёстче: в Византии не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Так и возник миф о страшной восточной деспотии, воплощении вселенского зла. Слово «византийский» почти во всех европейских языках стало ругательным. Империя осталась странной, роскошной и чужеродной, а православные страны, выросшие на её наследии, как считается, полностью им развращены.

Церковь Богородицы Паммакаристы (Фетие Джами), Стамбул, Турция, XIV век
Фотография: 2015 fusion-of-horizons. Права на публикацию изображения предоставлены автором
Ответом на антивизантийский миф стал миф о сусальной Византии, где всё было совершенно и которая стала образцом для русского самодержавия. И тут мы как историки должны сказать, что между византийскими императорами и русскими царями существует пропасть. В греческом мире император — защитник народа. Мы же привыкли представлять властителя как диктатора, который поставлен правящим классом, чтобы держать людей в подчинении. Византийский император воспринимал себя представителем бедняков перед правящими классами, это видно из указов и может быть подтверждено документально. В сознании русского народа эта мифологема тоже присутствовала, но только не в сознании правителей.
В замедленной съёмке разливающегося по столу молока мы видим образ, отсылающий нас к другой реальности, — и это фундаментальный принцип творчества Тарковского
Вы говорите, что мы всё забыли и утратили. А что всё‑таки осталось?
Осталось «иконическое сознание». Мы унаследовали от Византии наше восприятие мира как иконы, то есть образа-посредника. Мой любимый поясняющий пример происходит из литературы XIX века. Давайте задумаемся, чем образ мира в трудах Достоевского и Толстого отличается от того, что мы видим в современных им произведениях литературы французской. Французы анатомируют то, что им дано, и кроме этой материальной данности для них ничего не существует. А вот для русских авторов предмет их описания не есть окончательная реальность. Пафос наших писателей состоит в том, что этот мир — лишь образ-посредник, а за ним есть другой. Они не стремятся его описать, но другой пласт реальности присутствует во всём, что они говорят. Эта традиция сохраняется и у Михаила Булгакова и, конечно, у Андрея Тарковского. Его фильмы пронизаны идеей иконического. В «Зеркале» нет ничего связанного со Средневековьем, но в замедленной съёмке разливающегося по столу молока мы видим образ, отсылающий нас к другой реальности, — и это фундаментальный принцип его творчества. На мой взгляд, самые яркие и талантливые произведения русской культуры внутренне связаны с византийским мировосприятием. Пусть ни Толстой, ни Достоевский о нём не думали, это наследие сохраняется на другом уровне, и именно оно создаёт загадочность и притягательность русской культуры для европейцев — то, что интересно в нас миру.
Среди наших современников есть кто‑то, кого можно включить в круг таких наследников Византии?
Современники создают не более чем стилизации. Можно сравнить Софию Константинопольскую, где сейчас не происходит богослужений, и построенный в неовизантийском стиле храм Христа Спасителя, причём я говорю не про современный муляж, а про первоначальную постройку архитектора Тона, замечательную профессиональную работу. Первый храм — образ Божий, а второй — образ всемогущей Власти, русской имперской идеи. С Византией именно так сегодня и получается. Есть разве что несколько иконописцев, которые не делают имитации и муляжи, а воссоздают духовный смысл. Среди них Ирина Зарон, лучшая, как мне кажется, сегодня. При этом самые талантливые мастера, по‑моему, даже опасаются работать с этой традицией, боятся, что у них получится «храм Христа Спасителя». И на уровне государственной идеологии использовать византийскую идею тоже не получается, по причине чудовищно низкого уровня знаний о ней. Для успешной политической пропаганды в массовом сознании должно быть хотя бы несколько клише, а их нет, только тотальное невежество. Власть, стремящаяся сейчас продвинуть сусальный миф, не сможет этого сделать, пока не будет изучения Византии хотя бы на самом примитивном уровне, хотя бы как индийской йоги или японской чайной церемонии.

Монастырь Синая, Румыния, 1695
Фотография: 2009 fusion-of-horizons. Права на публикацию изображения предоставлены автором
Даже в XIX веке, когда уровень знаний был на порядок выше, когда власть при участии крупных мастеров, например Васнецова и Нестерова, потратила огромное количество денег, чтобы утвердить неовизантийский стиль, и когда было построено огромное количество храмов «под Византию», всё это кончилось сокрушительным провалом. Дух ушёл. Использовать столь лакомую Византию ни у кого не получается, но при этом она составляет огромную часть нашего сознания, нашего типа восприятия мира, который отличается от западного. Не надо переводить его на уровень примитивного разговора, что у них всё про деньги, а у нас — про духовное, это не так. Но принципиальные и часто неформулируемые отличия каждый из нас ощущает. Некоторые считают их пережитком царско-советской дикости, которую нужно искоренять, учась у цивилизованных народов, а между тем эта история гораздо древнее и сложнее. И мы до сих пор ни на шаг не ушли от этого ложного конфликта XIX века. Например, американский историк Арнольд Тойнби, анализируя корни холодной войны, обращался к нашим византийским корням, утверждая, что Византийская империя — это исторический враг Запада, и все проблемы начались с того, что Русь приняла христианство в его восточном изводе из Константинополя. И вот, — утверждал он, — мы на грани ядерной войны, потому что Россия пошла не за правильным Западом, а за двуличной Византией. Это звучит глуповато, но сидит в головах многих, даже образованных людей.
Мне кажется, что единственный способ преодолеть этот порочный круг — признать Византию особой ветвью европейской культуры. Наша, византийская ветвь, как и западная, тоже соединила античное наследие и христианские ценности, но иначе. Мы — «византийские европейцы», в этом определении важны оба слова. И с этой точки уже можно начинать диалог.