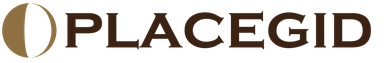Новосибирск и Новосибирская область: свежие новости, объективный анализ, актуальные комментарии. Вечные вопросы философии по А.А
К памятной дате того или иного писателя обычно задают вопрос, насколько актуально сегодня его творчество. Этот вопрос звучит сегодня, в день 195-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. И ответ все тот же - творчество Достоевского актуально, поскольку, как сказал один литературный персонаж «Человек мало изменился».
Человек мало изменился со времени жизни Достоевского, и все главные его свойства сохраняются. И Достоевский как раз тем хорош, что в его романах главное - не бытописание, относящееся к данному времени или данной эпохе (хотя он, конечно, очень предан своей современности), но ключевые вопросы человеческого существования. Эти главные вопросы, что называется «проклятые вопросы Достоевского», он впервые художественно сформулировал. И на эти вопросы ответы не найдены до сих пор.
Как говорил в своем время Антон Павлович Чехов в письме Алексею Сергеевичу Суворину, русская литература не отвечает ни на какие вопросы, но она нас удовлетворяет тем, что правильно их задает. Достоевский поставил некоторые вопросы, которые мы сейчас решаем с той или иной степенью успешности. Они касаются в первую очередь отношений человека с Богом, со своей совестью, со своим душевным подпольем, которое существует практически у каждого.
И эти вопросы, и попытки найти ответы на них актуальны сегодня. И дело не в том, что Достоевский пророк и у него романы-предупреждения, потому что любая литература - это предупреждение. А дело в том, что Достоевский, как сказала бы сейчас молодежь, «просек» некоторые болевые точки человеческого существования. Причем он говорил о них не в общем, не абстрактно, не в каких-то философских категориях, а очень непосредственно. Его персонаж поставлен в событийные условия.
Кроме того, Достоевский продолжает традицию, начатую Николаем Васильевичем Гоголем в его «Выбранных местах из переписки с друзьями». Это попытка русской словесности вмешаться в жизнеустроение, повлиять на состав самой жизни. Кроме Гоголя, сюда же относится поздняя публицистика Льва Николаевича Толстого. Ну и, конечно, «Дневник писателя» - ежемесячный журнал Достоевского, который имел колоссальное воздействие на публику. «Через головы поэтов и правительств», как говорил Маяковский. Это не проповеди, но разговоры с читателем напрямую.
Наша история подтверждает правоту проницательности взгляда Федора Михайловича на человека и мир. Правильно говорил Альберт Эйнштейн: «Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс». Но Гаусс - математик и физик! Казалось бы, как Достоевский может соперничать с математикой? Нет, ценны не знания, а точка зрения, подход к миру, стиль мышления. Вот, что важно для Эйнштейна. Потому что человек до Достоевского и после - это разный человек. Это человек, узнавший о себе гораздо больше, чем он знал. Это в нем открыл Достоевский.
Поэтому так важно соприкосновение с ним. Кто-то предлагает убрать Достоевского из школьной программы, поскольку ребенок якобы еще не в силах понять его идеи. Можно подумать, что для взрослых людей его романы не сложные. Нет гарантии, что человек, став взрослым, вдруг постигнет Достоевского. Но дело не в понимании - никто, ни взрослый, и ребенок, ни литературовед, ни критик не могут объять необъятное и постичь всей глубины - но важно соприкосновение с ней.
Вообще-то Достоевский - писатель молодежный, у него герои-то все молодые, в возрасте 25-27 лет. И проблемы, которые занимают его героя, волнуют человека в молодом возрасте - проблемы смерти, жизни, счастья.
Вся наша классика вскрывает эти проблемы. Я однажды пошутил, что если бы Татьяна Ларина пошла за Онегиным, то мы бы уже давно примкнули к мировой цивилизации. Но она не пошла за Онегиным, и Достоевский в своей «Пушкинской речи» объясняет почему - потому что нельзя строить свое счастье на несчастье другого. Это имеет отношение ко всему происходящему, это те вопросы, на которые нам предстоит искать ответы.
Поэтому отказаться от этого духовного багажа - это просто обрезать корни. Не нефть, не газ, не алмазы, а то, что дала русская литература - это ресурс нации. Но преподавание Достоевского и других классиков - действительно вопрос сложный. Все здесь зависит от учителя. Учитель - как тот магический кристалл, через который русская классика может дойти или не дойти до читателя. Именно учитель может передать не просто сумму идей, а поэтику. Это бесценно, отказываться от этого нельзя, потому что ничего лучше классики у нас пока нет.
Записал Роман Кизыма
Достоевский и Бердяев.
«Проклятые вопросы» Достоевского в европейском экзистенциализме.
Этические ценности всегда занимали центральное место в русской философско-литературной мысли. Философия и литература неразрывно связаны в творчестве великих русских мыслителей. Единство художественного и философского в повествовательном образе – отличительная черта шедевров русской классики. В истории нашей культуры, пожалуй, нет ни одного крупного писателя, который не был бы философом, и нет ни одного философа, на которого русская литература не оказала бы значительного влияния. Среди них – и Николай Александрович Бердяев, в духовном становлении которого, по его собственному признанию, «определяющее значение» имел Ф.М.Достоевский.
Николай Бердяев открыл в творчестве Достоевского так называемые вечные вопросы бытия: что есть человек, что значат для него добро и зло, свобода и страх, как и почему он выбирает свой путь, насколько он волен в этом выборе. Вечные или, как их точно назвал Николай Бердяев, «проклятые вопросы» человечества неоднократно поднимались великими мыслителями разных времен и народов. Но каждое поколение обращалось к ним вновь и вновь, и ни один путь, ни одно решение не были приняты как исчерпывающие и окончательные неблагодарными потомками. В ХХ столетии эти «проклятые вопросы» получили название смысложизненных, а философия, отвергнувшая с таким трудом отвоеванный у ханжества и невежества научный путь их познания, – экзистенциальной.
Одним из первых вопросов из разряда вечных и главных вопросов бытия человека в мире, поднятых в экзистенциализме, явился конфликт разума, вторгнувшегося в тайны мироздания и поставившего под сомнение его божественное происхождение, и веры - последнего прибежища обычного, «маленького» человека, для которого потеря уверенности в своем образе и подобии Богу оказалась страшнее незнания собственного биологического происхождения, а также законов механики, генетики и диалектики.Одним из первых вопросов из разряда вечных и главных вопросов бытия человека в мире, поднятых в экзистенциализме, явился конфликт разума и веры. Человек существующий в своем внутреннем мире, отторгающий внешние проблемы не сумел обойти этот вопрос. Разум, вторгнувшийся в тайны мироздания и поставивший под сомнение его божественное происхождение, практически лишил обычного, «маленького» человека его последнего прибежища - веры, если не в форме конкретной религии, то в форме некоей надежды на божественное совершенное начало в мире и человеческой природе. Технический и социальный прогресс ХХ в. с неумолимой очевидностью подтвердил, что для человека потеря уверенности в своем образе и подобии Богу оказалась страшнее незнания собственного биологического происхождения, а также законов механики, генетики и диалектики. Николаю Бердяеву как мыслителю, ставшему свидетелем результатов достижений научно-технической мысли и общественных проблем ими вызванных, вопрос разума и веры не был чужд, хотя его философии нет самозабвенного противопоставления разума и веры, умозрения и откровения (как, нарпимер, у Льва Шестова, который также экзистенциалистски интерпретировал творчество Достоевского). Для Бердяева очевидна возможность их гармоничного сосуществования. Доказательство тому – творчество Достоевского, которого Бердяев называет в «особенном смысле гностиком», «антропологом» и «пневматологом человеческого духа» . Вопрос разума и веры отражает отношение к миру Н.Бердяева, для которого нет мира без Бога и нет человека без образа Божия. Для подтверждения существования и значения этого вопроса в европейском экзистенциализме необходима именно такое миропонимание. В западном экзистенциализме развиваются два крыла - религиозное и атеистическое. На первый взгляд атеистический экзистенциализм априори отвергает и сам вопрос разума и веры. Однако сам факт возникновения этих двух ветвей в экзистенциализме обусловлено именно мучительными размышлениями над этим вопросом. Но если Кьеркегор отвергает разум и в вере и исходящем из веры страданини ищет возможность существования, то Сартр и так называемый атеистический экзистенциализм, отвергая Бога, во- первых не снимают вопрос веры, а во-вторых, атеизм сам по себе является продуктом неразрешимости этого вопроса. Смысложизненные вопросы, поднимаемые в экзистенциализме, в том числе и атеистическом являются исходящими, с одной стороны, из неразрешимости конфликта разума и веры и разочарования в божественном устройстве мироздания и божественном происхождении человека, который приносит в мир столько зла, с другой – сомнениями в позитивности разума, который и является источником этого зла, что приводит к отрицанию рациональности как основе мироздания и к отрицанию рационального познания столь иррационально устроенного существа, как человек.
В XX веке в онтологии Ясперса и Хайдеггера было сформировано экзистенциалистское понимание познания. В работе «Бытие и ничто»(1927) Мартин Хайдеггер определит важнейшую составляющую человеческого существования («здесь-бытия») – смерть, как абсолютную истину, которую бессмысленно доказывать или оспаривать, знание о неизбежности которой доступно любому, даже самому необразованному, темному индивиду. Экзистенциалисты определят индивидуальную субъективность сознания в качестве основного критерия истины, постичь и выразить которую возможно лишь в переживаниях, эмоциях и настроениях. Передавать их всегда было делом скорее литературы и искусства, чем философии. Эта идея западного экзистенциализма, сближающая предмет философии и творчества, принимается Николаем Бердяевым, как принимается им и сама возможность через творчество выражать идеи философии. Именно в этом качестве он открывает творчество Достоевского для западной философии. И именно в этом качестве предстанет в истории европейского экзистенциализма «Разговор у проселочной дороги» Хайдеггера – один из первых опытов художественно оформленного способа реализации настроений и эмоций в философии.
Продолжают галерею столько же философских, сколько и художественных (а иногда больше философских) произведений французские писатели-экзистенциалисты. В их творчестве появляется философский герой, находящийся в ситуации выбора, критерии истинности которого размыты и иллюзорны, что, собственно, и определяет абсурдность бытия человека в этом мире. Признанным мастером создания ситуаций выбора («пограничных ситуаций») в прозаических и драматических произведениях является Жан-Поль Сартр, который был также и виднейшим теоретиком экзистенциализма.
Непостоянство и изменчивость экзистенциального существования, обусловливающие возможность творческой реализации, Сартр объясняет наличием смыслообразной структуры сознания. Николай Бердяев предвосхищает это открытие Сартра. Он пользуется иной терминологией, чем французский философ, и рассматривает не просто творческое сознание как абстрактное понятие, а конкретное творчество – творчество Достоевского, но приходит к тем же выводам, что и Сартр об особенной природе миросозерцания художника. Бердяев анализирует многообразие философских идей Достоевского, воплощенных в литературных образах и открывающих через судьбы героев «новые миры», в качестве результата функционирования богатейшего миросозерцания их автора, или, пользуясь терминологией Сартра, смыслообразной структуры его сознания.
В произведениях Достоевского угадываются и другие идеи и образы, характерные для творчества европейских экзистенциалистов. Так, на век раньше, чем в «Бытии и ничто» Сартра, на страницах произведений Достоевского появился образ «другого». В качестве экзистенциалистской категории «другой» был открыт Сартром, но как художественный образ он начал развиваться в искусстве намного раньше. «Другой» возникал в человеческом воображении в разных обличьях. Но его русские маски, созданные пером Достоевского, впитали в себя черты, взращенные страхом, накопленным опытом всего человечества, и оказались не менее разнообразными, чем в прозе и драматургии западных экзистенциалистов ХХ столетия». Достоевский в своих произведениях изобразил и новые лики, и старые личины, за которыми скрывались страхи, сомнения и предрассудки людей, сохранявшие свою жизненную значимость, несмотря на все открытия науки и достижения цивилизации. Воплощения «Другого» у Достоевского весьма разнообразны. Это и Черт, преследующий Ивана Карамазова, и Золотой Телец, прельщающий юного Аркадия Долгорукого, и бесы сомнения, досаждающие одному из самых безгрешных героев Достоевского – Алеше Карамазову. «Другой» может выступать в качестве подсознательно овладевающих человеком темных сил, а может материализоваться в омерзительных в своей повседневной узнаваемости фигурах Смердякова или Верховенского-младшего. Но «Другой» у Достоевского – это не обязательно злое, темное начало. «Другой» может нести и свет. Иногда это сам Господь, не покидающий свое творение в роковые минуты выбора дальнейшего пути, или посланный им ангел-хранитель. Такой «Другой» побуждает Дмитрия Карамазова принять на себя вину за чужое преступление и дает ему шанс в страданиях искупить прежде совершенные грехи и спастись от будущих искушений, которые всегда следуют за безнаказанностью. Такой «Другой» мучит и преследует Родиона Раскольникова, расшатывая его идею об убийстве во благо и требуя раскаяния в содеянном. Светлый «Другой» у Достоевского – это судья и обвинитель, темный – соблазнитель и провокатор. Но «Другой» всегда вмешивается в «естественный», то есть привычный ход вещей, будоражит сознание, пробуждает дремлющие силы и инстинкты. Это те же функции, которые предусматривает для него Сартр.
Наличие «Другого» у Достоевского, как и в произведениях французских экзистенциалистов, обусловливает ситуацию выбора. Но Достоевскому совсем не безразличны практические альтернативы, к которым более или менее равнодушны западные экзистенциалисты. В его произведениях выбор всегда обострен: или Добро и Бог, или Зло и Дьявол. Полюса выбора обозначены четко и неразрывно связаны с требованиями христианской морали. Но это традиционное для русской литературы нравственное ограничение духовного поиска не является результатом авторской отстраненности от изображаемых им пограничных ситуаций. Достоевский не оправдывает таких как Смердяков или Ламберт, он даже не сочувствует им, хотя мотивы для жалости налицо: один – незаконнорожденный, «бастард», сирота, другой – тоже сирота, бедный студент, да еще иностранец. У Достоевского не может быть оправдан доносчик, лицемер, тем более предатель. А в литературе западного экзистенциализма, далеко ушедшего от христианских идеалов, предатель, если не оправдан, то и не осужден автором. Человек осуществляет свой выбор, не имея внешних по отношению к себе нравственных ориентиров, и потому граница между подвигом и предательством оказывается размытой. Так, для героя «Стены» Сартра проблема выбора имеет смысл только непосредственно в момент этого выбора, результат же его, будь то жизнь ценой предательства или смерть и верность долгу, практически не имеет значения. Важен факт выбора, а не его цель. Герой Сартра выбирает жизнь ценой предательства и кару, которой эта жизнь для него становится. Выбери он смерть, расплачивалась бы его мать, у которой нет других детей и никакой опоры. А матери преданных им партизан? Их нет в ситуации выбора.
У Сартра «Другой» –невидим. Это «просто направленный на меня взгляд» , говорит Сартр. Этот взгляд сопровождает человека везде и всегда, но наиболее пристальным он становится в ситуации одиночества. В «Бытии и Ничто» Сартр использует образ Медузы Горгоны, чтобы показать, что означает встреча с «Другим». Лицезрение Горгоны влечет за собой не просто мгновенную эмоцию страха, а вечный ужас. Это - ад. Но ад – без альтернативы, предполагаемой верой. Атеизм Сартра – это не результат осмысления материалистических открытий науки, это надежда на спасение от ада существующей жизни, возможность бегства от «Другого». Экзистенциального героя, мучающегося здесь и сейчас, в повседневной жизни не прельщают райские кущи, но пугает ад, где ждет наказание - не только за убийство, воровство, прелюбодеяние, но и за уныние, отчаяние, наконец, самоубийство, которое – не прихоть, а единственный выход, спасение, освобождение от мук неразделенной любви, нечистой совести, понимания изначальной несправедливости устройства мира, где сильный обязательно уничтожает слабого, хитрый торжествует над умным, наглый и подлый – над смиренным и праведным. Невозможность изменить существующий порядок вещей вызывает у экзистенциального героя спасительную реакцию равнодушного пренебрежения к миру, который нельзя изменить, поэтому приходится терпеть. Все равно, все едино: и правда и ложь, и добро и зло, и неважно, кто победит в их борьбе, если она вечна. Так жить невыносимо, но еще более невыносимо – верить в неотвратимость наказания в загробной жизни, знать, что и за такую жизнь, за это жалкое существование придется платить еще и после смерти. Поэтому Бог, создавший мир, в котором за все отвечает человек, экзистенциалистам-атеистам не нужен.
В отличие от «Другого» Ж.-П. Сартра, в художественной системе Достоевского «Другой» – часть скрытой в глубине человека «вулканической природы, спрятанной за пластами душевной оформленности устоявшегося душевного строя…» . Достоевский взрывает этот вулкан и обнажает лик «Другого». Его герои обречены на ужас от непосредственного лицезрения Горгоны – невыразимое и ни с чем не сопоставимое ощущение неизбежности наказания, приговора. У Достоевского – это кара Господня. У атеиста Сартра – это испепеляющее знание собственной порочности, «подсудность» в условиях «презумпции виновности». Его «Другой», с точки зрения верующего человека, всегда – от дьявола и сходен с темными образами «Других» у Достоевского.
Достоевский указывает тот же выход из морально-этического тупика, что и Сартр. Это признание вины и раскаяние. Но раскаявшиеся герои Достоевского освещены христианской верой в прощение и спасение. У Сартра раскаяние – это состояние вечной муки от сознания несовершенства своей природы. Сартр не дает надежды на прощение и спасение, его цель – создание «радикального атеизма» . Герой пьесы «Дьявол и Господь Бог» фон Гёц попеременно, но самозабвенно служит то абсолютному Злу, то есть Дьяволу, то абсолютному Добру, то есть Богу. Жизнь и смерть не подчиняются божественным законам, считает Сартр. Добро и Зло, если они исходят из веры в Бога, могут легко поменяться местами. Человек нуждается в освобождении от представления о мире, в котором есть Бог и Дьявол. Только освобожденная от религиозных установок вера в человека может привести, по мнению Сартра и других представителей атеистического экзистенциализма, к подлинной духовной свободе.
Идейные искания Достоевского связаны с христианской этической традицией. Особенно это очевидно в финалах «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых». Раскаяние должно быть принято Богом. Если это так, то за раскаянием последует испытание страданием. Ниспослание страдания есть знак возможности искупления и высшего прощения. Достоевский, как и Сартр, утверждает веру в человека. Но Бог не мешает этой вере. Напротив, для Достоевского человек только потому и имеет право называться человеком, что ощущает потребность Бога в своей душе. Человека, реализующего эту потребность, Николай Бердяев назвал «новым Адамом», «Богочеловеком».
Приверженность христианским духовным ценностям не позволяет Достоевскому принять экзистенциалистское понимание отношений индивида с обществом как с внешним - враждебным и абсурдным - миром. В «Миросозерцании Достоевского» Бердяев раскрывает специфику художественного метода великого русского писателя, не считая Достоевского ни реалистом, ни психологом. По его мнению, Достоевский больше чем психолог, «он – метафизик человеческого духа» . Бердяев проник за грань сюжетно-тематического повествования Достоевского. Он связал стилевые особенности художественного произведения с авторским «первичным миросозерцанием» и представил их как проявления целостности духа художника.
Особенности художественного метода Достоевского Бердяев подчиняет сверхзадаче авторского откровения. Откровение художника, как и божественное откровение, не поддается традиционному философскому анализу. Бердяев считает миросозерцание Достоевского, раскрываемое через его творческое откровение, особым видом интуиции, которая в одно и то же время и «художественная», и «идейная, познавательная, философская». Результатом этой интуиции является «наука о духе» . Николай Бердяев открыл в творчестве Достоевского источник нового знания о человеке, которое достигается путем постижения художественного, созданного воображением и фантазией, мира. Среди экзистенциалистов, взгляды которых аналогичны выводам Бердяева, современник Сартра Габриэль Марсель, который настаивал на подлинности внутреннего мира человека, раскрываемого в творчестве, и неподлинности мира внешнего, реального. Н. А. Бердяев раскрывал привлекательность и полезность познания внутреннего мира художника (через его произведения) для познания читателем своей собственной сущности. Такой подход, конечно, раздвигает границы внутреннего мира по сравнению с самоуглубленностью и погруженностью в собственное «Я» у Сартра или Марселя. Но Бердяев предлагает для такого расширения уникальный и богатейший материал – творчество Достоевского, познание которого нисколько не умаляет значение познания собственного «Я» в духовном развитии экзистенциальной личности.
По мнению Бердяева, успех Достоевского-писателя был обусловлен не созданием образа актуального социального героя, а тем, что он перерос традиционные моралистические методы гуманистической философии и литературы: «Достоевский потерял юношескую веру в «Шиллера», – этим именем он обозначал все «высокое и прекрасное» . Но Достоевский изображает своих героев, страдающих и мечущихся в трущобах и подвалах, не для того, чтобы подорвать светлый гуманистический идеал и не для того, чтобы угодить радикально настроенным читателям, а чтобы доказать: и во тьме есть свет. Вера и освобождение духа возможны всегда и везде: «Освобождающий свет есть и в самом темном и мучительном у Достоевского. Это – свет Христов, который и во тьме светит» . Гуманистическая вера в человека есть достояние человека и может быть утрачена. А вера Христова есть божественный дар и может выдержать все. Эта идея близка воззрениям религиозных экзистенциалистов, которые жаждут освобождения духа в вере. Достоевский движим той же религиозной болью, что и датский основоположник экзистенциализма С.Киркегор, у которого «для веры все возможно» , если вера сосредоточена в личностном мире, то никакие внешние несчастья и потрясения не смогут ее поколебать. В ХХ столетии главным предметом экзистенциальной философии выступит «наличное сознание» как подлинный «смысл всех вещей». У Достоевского «смысл всех вещей» сконцентрирован в той же сфере, что и у западных экзистенциалистов. Бердяев назвал ее «атмосферой человека». Он подчеркнул роль внутренней, скрытой жизни человека в образной структуре произведений Достоевского: «За жизнью сознательной у него всегда скрыта жизнь подсознательная. Людей связывают не только те отношения и узы, которые видны при дневном свете сознания» . Бердяев отмечает, что предметный, даже бытовой ряд, у Достоевского служит средством выражения и отражения переживаний, страхов и тревог, то есть того, что составляет сущность экзистенциального наличного сознания, и все «внешние фабулы романа – вся бытовая множественность действующих лиц – все это лишь отображение человеческой судьбы» .
Бердяев сознательно не причислял Достоевского к экзистенциальным философам, как и вообще к какому бы то ни было философскому направлению. Для Бердяева Достоевский уникален и независим: «академическая философия ему плохо давалась, его интуитивный гений знал собственные пути философствования» . Тем не менее, именно Бердяев показал значение творчества Достоевского для философской метафизической антропологии и выявил в его миросозерцании ряд проблем, определивших тематическую направленность европейской экзистенциально ориентированной литературы ХХ века. Одним из «проклятых вопросов», занимавший многие умы и не обойденный ни Достоевским, ни западными писателями-экзистенциалистами, явился вопрос о революции в его социальном и личностном аспектах.
Бердяев пишет, что Достоевский создает в романе «Бесы» образ революции, «глубинные и последние начала» которого подтвердились в ХХ веке. Как бы ни была далека художественная интерпретация Достоевского революционной ситуации в России от теорий, сложившихся к концу ХIХ века, но она отразила важнейшую проблему роли личности в революционном движении, в которой сфокусированы основные социально-политические и духовные противоречия этой эпохи.
Когда Достоевский создавал свой роман-памфлет «Бесы», он не мог знать, что один из властителей дум радикально настроенной молодежи ХХ века Жан-Поль Сартр также использует карнавальные маски и образы, театральные способы представления величайших катастроф и судьбоносных конфликтов мировой истории. Революция для Сартра – прежде всего бунт против Бога. По мнению Г. Марселя, Сартр проповедует антитеизм: создает парадоксальный образ Бога, который довел человечество до состояния, когда оно в нем не нуждается. Констатируя, что движущей силой революции является пролетариат, Сартр назвал его классом, «штурмующим небо» . Бердяев по поводу «Бесов» заметил, что «в революции Антихрист подменяет Христа». «Штурмуя небо», мстя за разочарование в божественном устройстве мира, люди отрекаются от Бога. За этим отречением неизбежно следует присяга Дьяволу: «Люди не захотели свободно воссоединиться во Христе и потому они принудительно соединяются в Антихристе» . Таким образом, концепции революции Достоевского и Сартра близки по духу и по методу проникновения в сущность глобальных социальных процессов. И верующего Достоевского и безбожника Сартра волнует, прежде всего, революция духа, потрясающая внутренний мир личности, за гранью которого это потрясение ни во что позитивное все равно не выльется.
Ставрогин и Кириллов, Верховенский и Шатов – это не только русские характеры кануна величайших потрясений в мировой истории. Это обобщенные образы, оживающие в радикальной европейской прозе и драматургии, в произведениях Сартра, де Бовуар, Камю и других. Их пессимизм исходит из исторического опыта ХХ века, принесшего человечеству разочарования и трагедии, которые Достоевский так прозорливо предугадал. Объеденяют Достоевского и Сартра, а также других экзистенциалистов художественные приемы, выразительные средства, при помощи которых они завоевывают своих единомышленников. Достоевскому принадлежат глубокие суждения о революции и социализме, но представлены они в монологах и диалогах, размышлениях, исповедях и даже в снах и видениях его героев, а не в теоретических сочинениях.
Н. А. Бердяев, используя художественный материал «Бесов», пытался разобраться в проблеме бунта и революции раньше, чем еще один французский писатель-экзистенциалист Альбер Камю. Камю рассматривал бунт как индивидуальный протест против абсурдности мироздания, где социальное устройство – одно из проявлений абсурда. Революция же – это использование индивидуального протеста для осуществления своей воли другим индивидом или группой индивидов. Но Бердяева занимают не различия между бунтом и революцией, а их взаимодействие как связанных явлений – «внутренняя диалектика революции» . Если индивида с его бунтом используют, то и индивид может использовать общество для достижения своих утилитарных целей. Диктатор начинает с малого. Гитлер, например, начинал с лидерства в небольшой шайке не то дьяволопоклонников, не то просто хулиганов. Однако диктатор и сам является элементом созданного им социума или, как определял такое сообщество Сартр, «свободно тотализирующейся группы» . Эта группа может стать самостоятельным организмом, который будет расти и развиваться. Для существования и функционирования такого организма необходимы новые человеческие ресурсы. Для их пополнения «тотализирующаяся группа» начинает эксплуатировать своих собственных членов, которые должны привлекать новых людей, сдерживать сомнения и избавляться от сомневающихся.
Такова «диалектика» взаимодействия индивида и социума в процессах накопления и разрядки бунтарской энергии. Достоевский раскрывает на страницах «Бесов» способ использования бунтующей природы индивида – общее преступление, излюбленный прием создателей экстремистских группировок. Групповое преступление, убийство – ситуация, в которой все виноваты, «все отвечают за все»: и закоренелые злодеи, и слабовольные, и душевнобольные, и глупые, и просто очень молодые... Эти последние – наиболее легкая добыча для тех, кто рвется к власти. Неокрепший ум, гормональный хаос, свойственный юности – все это способствует тому, что зерно зла, брошенное в соответствующую почву, непременно взойдет. Жертвой такого «посева», как участник кружка Петрашевского, был в молодые годы и Достоевский. Петрашевский пропагандировал больше утопические, чем революционные идеи, и сам был жертвой своего времени, когда напуганная французской революцией российская монархия жестоко подавляла любое инакомыслие. Нечаев, дело которого послужило прототипом сюжета «Бесов», – «сеятель» другого рода. Достоевский признавался: «...Нечаевым, вероятно, я не смог бы сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности» .
Если бы экзистенциалистское понятие «забота» было бы сформулировано в XIX, а не в XX веке, то, возможно, Бердяев и другие исследователи, идущие по следам творчества Достоевского, рассматривали бы это понятие как ключевое для анализа едва ли не любого его произведения. Христианское содержание «заботы» воплощает в себе Макар Девушкин в «Бедных людях». В его человеческих качествах проявляется потребность бескорыстной самоотдачи. Хотя такая «забота» направлена «вовне», она является главным условием существования и развития его личностного, внутреннего мира. Другие, более зрелые образы Достоевского, гораздо сложнее. «Забота» является лишь одним из способов реализации характера в сложном лабиринте социальных и индивидуальных отношений.
В романе «Бесы» изображены проявления экзистенциалистской «заботы», как их понимает и описывает немецкий экзистенциалист М. Хайдеггер. Хайдеггер выделяет в структуре «заботы» три слитные момента существования: 1) стремление за его границы к возможностям бытия, которое неизбежно завершится страхом, 2) заброшенность и 3) забвение. Первый момент в большей мере созвучен душевным движениям Достоевского. В «Бесах» отражены переживания автора, связанные с его личным опытом общения с радикально настроенными кругами русской интеллигенции. Страх от столкновения с действительностью, с ее несправедливостью, Достоевский уже пережил на каторге. В голосе автора «Бесов» звучит уже не столько личный страх, сколько предостережение будущим поколениям.
В миросозерцании Достоевского есть место также ситуациям «заброшенности» и «забвения». В «заброшенности», которую испытал Достоевский, оказавшись среди каторжников, коренилось и чувство ответственности, испытанное Достоевским за собственную революционную деятельность в молодые годы и за увлеченность этой деятельностью своего поколения. А выражение своих переживаний в художественном творчестве является признанным экзистенциалистами способом их «забвения» – избавления от груза ответственности, освобождения от надежд и страхов окружающей действительности, в которую забрасывает человек. Хайдеггер настаивал, что лучший способ «забвения» – это уйти в будничные дела, для писателя – это писательство. «Забвение» Достоевского породило литературные шедевры, идейно-философская насыщенность которых не может быть исчерпана установками экзистенциализма.
Особенность творчества Достоевского такова, что какие бы «проклятые» вопросы в нем не поднимались, христианская этическая традиция всегда присутствует в его произведениях. Души героев Достоевского – это всегда поле битвы между добром и злом. Христос и Антихрист ведут свой вечный бой за право заботиться о душах человеческих.
«Забота», или «озабоченность» дьявола в том, чтобы заставить попавших в его сети творить зло. Начавшие с человеческого жертвоприношения «бесы» Достоевского, жаждали кровавых разрушения и массовых убийств, что подтвердила история. Достоевский пытался предупредить, уберечь, спасти последующие поколения от еще более страшных исторических сюжетов. Это главная забота Достоевского – художника и христианина.
Идея спасения, пронизывающая творчество Достоевского, лежит в основе понимания «заботы» у Бердяева. В его философии, как и в миросозерцании Достоевского, это понятие шире, чем в европейском экзистенциализме. Достоевский и Бердяев привнесли в западный экзистенциализм понимание христианства не только как религии «личного спасения и ужаса гибели», но также религии «космической и социальной», религии «бескорыстной любви, любви к Богу и человеку» .пониманием Заботясь о спасении, Бердяев обращается к человеческому «Я» не как к абстрактному духу, а как к христианской душе: «Я не могу спасаться сам, в одиночку, я могу спасаться лишь вместе с моими братьями, вместе со всем Божиим творением, ...я должен думать о спасении других, о спасении своего мира» .
С позиции религиозного философа Бердяев использовал еще одно понятие, столь важное для экзистенциализма – «свобода». Христианскому миропониманию Достоевского и Бердяева свойственно дифференцированное восприятие мира. Существует мир Бога, и мир, погрязший в грехе, отрекшийся от Бога, – мир Дьявола. Достоевский создает впечатляющие картины греха как нарушения божественных заповедей. Но как бы ни был страшен грех, не менее страшны духовные метания человека, находящегося в преддверии греха. Муки выбора, перед которыми стоят герои Достоевского, едва ли не ужасней самого греховного деяния.
Сартр помещал своих героев в невыносимые условия нравственных шатаний - в ситуации выбора. В его пьесах ужасает не зло само по себе, а зло как предпочтение добру. Безобразие Дьявола очевидно лишь перед совершенством Бога. Но и служение добру рискованно, ибо может быть понято как результат страха перед злом. Находясь в ситуации выбора, человек всегда находится под влиянием страха, каким бы ни был предмет его выбора. Поэтому и свобода такого выбора иллюзорна, человек никогда не будет свободен, пока его сознание отягощено «предрассудками» религиозной морали. Только в упразднении веры в Бога видит Сартр возможность веры в человека, свобода духа которого невозможна без освобождения от представлений о добре и зле как ипостасях Бога и Дьявола.
Здесь очевидна пропасть, разделяющая Сартра и русских религиозных мыслителей. Н. А. Бердяев, как и Ж.-П. Сартр, видел опасность в свободе человека: какому из двух миров отдать предпочтение, ибо служение любым ценностям, даже божественным, несет в себе угрозу порабощения – «опасность перехода в свою противоположность, в необходимость и рабство» . В этом - «трагедия свободы». Сартр решает проблему свободного выбора между Богом и Дьяволом, упраздняя их обоих. Но для Бердяева, как и для Достоевского, мир без Бога и есть мир Дьявола, и без Бога нет и не может быть человека. Великий русский писатель своим творчеством поднимал вечный вопрос: а есть ли Бог, или, может, там и нет ничего?.. Его герои через страдания и сомнения приходят или стремятся прийти к Богу. Но именно сомнения выявляют в героях Достоевского – по определению Бердяева – «природного человека» . Конфликт свободы и необходимости очевиден, пожалуй, в каждом герое Достоевского. И Раскольников, и Версилов, и братья Карамазовы и многие другие вынуждены выбирать между свободой: убить - не убить, предать - не предать; и необходимостью отвечать за последствия сделанного выбора. Попытка создать образ совершенной чистоты, беcконфликтного избрания пути добра и света, была предпринята Достоевским только в «Идиоте». Задача оказалась слишком сложной. Воплощающий светлое божественное начало князь Мышкин не выдержал столкновения с миром, его рассудок был сражен злом и страданием, который источала окружающая действительность, а его внутренний, подлинный, мир был разбит. Учение Бердяева о свободе не менее противоречиво, чем художественные образы Достоевского. Тем не менее В «Философии свободного духа» представлена достаточно четкая концепция свободы, в соответствии с христианским миропониманием. Первая, или «первичная, иррациональная» свобода – негативная «дьявольская», свобода в грехе, свобода избравших мир без Бога. Вторая свобода – положительная, «творческая», «божественная», реализовать которую дано «новому Адаму», «духовному человеку», «Богочеловеку».
Негативная свобода не всегда связана непосредственно с грехом. Непосредственный грех, финал развития «первоначальной» свободы – это уже переход свободы «в свою противоположность»: в рабство, в зависимость от низменных страстей и инстинктов. Негативная свобода ограничена погружением в собственное трагическое миросозерцание, свойственное герою «Записок из подполья», а также автору предсмертного послания в «Приговоре». Трагизм, не имеющий выхода за границы собственного «Я», приводит к отказу от реальности, отталкиванию от внешнего мира и, в конечном счете, к отторжению самой жизни. Такое восприятие свободы свойственно атеистическому экзистенциализму и восходит к идеям А. Шопенгауэра.
Понятие второй – «божественной» - свободы определяется любовью, добром и истиной, воплощенными в образе Христа. Вторая свобода не есть свобода от реальности, ибо она часть божественного творения. Для обретения «божественной» свободы необходимо пройти путь очищения. Именно с этой точки зрения Бердяев рассматривает «пограничные ситуации», в которых проблемы экзистенциального выбора являются испытаниями, ниспосланными Господом. Даже такое страшное испытание как каторга, на которую осуждены Дмитрий Карамазов и Родион Раскольников, – это своеобразный итог их жизненного пути, не только наказание, но и искупление грехов для начала новой жизни. Приближаясь к ней, человек обретает свободу для реализации творческого, то есть божественного начала.
В понятии божественной свободы как свободы не «от мира», а «для мира», выражено стремление Бердяева - поведать человечеству «откровение о человеке», о его предназначении: сохранить себя не просто как образец биологической жизни, а как образ и подобие Божие. Именно человек обладает возможностями изменить мир, вплоть до его полного разрушения (что соответствует требованиям атеистического экзистенциализма). И в этом амбиции твари простираются до равенства с Творцом. Но эти же возможности, по мнению Бердяева, могут быть направлены и на созидание, на совершенствование мира. У Бердяева человек предстает как носитель образа и замысла Господа Бога на земле, призванный совершать «богодейство», продолжать дело творения. Источником идеи Бердяева о богочеловеке являются светлые герои Достоевского, которые идут к свету, пытаясь разрешить все те же «вечные», «проклятые» или «смысложизненные» вопросы.
Хотя Бердяев не ставил перед собой непосредственной цели проанализировать предпосылки и сущность развития экзистенциализма, ему удалось раскрыть важнейший аспект зарождения экзистенциальной философии – «процесс отчуждения от человека его духовного мира» . Философы и писатели – экзистенциалисты, особенно атеистического крыла, сами поставили себя в оппозицию практически ко всем достижениям традиционной культуры. Но и их искания были обусловлены всечеловеческой потребностью в идеалах и ценностных критериях. «Проклятые вопросы» Достоевского позволили расширить трактовку идей и художественных образов западного экзистенциализма и в какой-то степени примирить их с духовным опытом человечества, в том числе и религиозным.
Т. Е. Николаевская
Религия – это занавеска – иногда пестрая и красивая, иногда грязная и ободранная, которою люди стараются скрыть от себя страшное неизвестное. Большинство боится взглянуть прямо в эту неизвестную тьму, как дети, которые боятся заглянуть и войти в темную комнату.
М. Волошин, 12 октября 1897 г.
Призрачная душа
В каком смысле в христианстве говорится о бессмертии души? Душа бессмертна, но не по природе (по своей природе – она ничто, небытие, тлен), а по милости Божией. Бессмертие человеческой души не внутреннее, а внешнее.
Более того, само это бессмертие носит вполне материалистический характер. Человек в христианстве представляется именно единством души и тела, и существование души, покинувшей тело, по христианскому учению, носит ущербный характер. Поэтому христианин должен верить не в блаженство души на Небесах после смерти, а в блаженство избранных после всеобщего воскресения - нового воссоединения души с телом на земле.
Чтобы не быть голословным приведу цитаты из статьи протоиерея Георгия Флоровского «О бессмертии души»: «Смерть есть отделение души от тела. Для христианина – это катастрофа, перечеркнутое человеческое существование. Св. Иустин весьма настойчив по данному поводу: "Если вы встретитесь с такими людьми, которые не признают воскресения мертвых и думают, что души их тотчас по смерти берутся на небо, то не считайте их христианами" (Разг., 80). Неизвестный автор трактата «О Воскресении» (приписываемого обычно св. Иустину) очень точно излагает суть вопроса: "Что такое человек, как не животное разумное, состоящее из души и тела? Разве душа сама по себе есть человек? Нет - она душа человека. А тело разве может быть названо человеком? Нет - оно называется телом человека. Если же ни та, ни другое в отдельности не составляют человека, но только существо, состоящее из соединения той и другого, называется человеком, а Бог человека призвал к жизни и воскресению: то Он призвал не часть, но целое, то есть душу и тело" (О воскр., 8). Св. Ириней писал: тело без души - лишь труп, а душа без тела - лишь призрак. Смерть и тление тела, можно сказать, стирают из человека "образ Божий". В умершем уже не все человечно».
Кризис ожидания
Следует понять особый трагизм христианского мировоззрения. После грехопадения мир повредился и стал снова погружаться в ничто, из которого он и был сотворен. И мир исчез бы совсем, если Бог не рождал новые твари, новые души. Заработал «конвейер разрушения» - Бог творит, а смерть – убивает. Нынешнее состояние мира похоже на мучительную агонию – он умирает, и не может окончательно умереть. Человек находится в состоянии ужасающего распада. Георгий Флоровский пишет: «Смерть - катастрофа для человека. Смертный, строго говоря, "недочеловек"».
В одном советском фильме прозвучала такая фраза: «В конечном счете – все люди герои: они живут, зная, что приговорены к смерти».
И вся надежда в этом кошмаре лишь в том, что он, наконец, когда-нибудь прекратится: наступит обещанный конец мучительной истории, произойдет воскрешение мертвых, Страшный суд, а затем и Царство Божие для избранных.
Хотя и в этом чаяньи таится страх, ведь достаточно часто подчеркивается: спасутся немногие (особенно в последние времена), и никто (даже праведные) не может быть до последнего уверенным в своем спасении. То есть, есть очень большой шанс вместо вечного блаженства получить вечную муку, что, разумеется, уже не внушает оптимизма. Но к тому же обещанный финал истории все время откладывается. Приблизить его человек своими силами не может, это полностью в воле Божией. Человек может только ждать. И вот христиане ждали – веками – Второго пришествия Христа и не дождались. Понятно, что у Бога и миллион лет – как один день. Но у смертных людей совсем другой «ресурс ожидания». Вера в божественное разрешение истории стала угасать, верх начало брать чувство богооставленности, заброшенности нашего мира, которое в итоге выразил Ницше словами «Бог умер».
Эпоха атеизма стала во многом следствием «кризиса ожидания» Второго пришествия. Человеку уже потому было легко принять мир без Бога, что к этому его подталкивало само христианство, утверждающее, что и мир, и человеческое тело, и душа – тварные по природе, т.е. отделенные от Бога непреодолимой чертой. Страх перед Богом, который считали основой добродетели, обратился в отвержение Бога, или даже в ненависть к Богу.
В книге французского философа, теолога Жака Маритена «Интегральный гуманизм» есть интересные размышления о природе русского атеизма. Маритен пишет, что историческая база этого явления находится в русской народной религии. И по своей сути русский атеизм есть «злопамятство против Бога и реванш по отношению к Богу, которого человек отказывается поставить во главе своей моральной жизни, поскольку он не может Ему простить мир и зло (существование зла в мире), т.е. в конечном итоге – творение мира».
Тупики оправдания
Существует совокупность религиозно-философских доктрин, обозначаемая словом «теодицея» (в переводе с греческого - «оправдание Бога»). Термин был введен в 1710 г Лейбницем, написавшем труд под названием «Опыт теодицеи о благости Бога, свободе человека и происхождении зла». На эту тему на протяжение веков было много чего сказано и написано, однако же клубок противоречий так распутать и не удалось. И любой думающий человек, если он задастся этими «проклятыми вопросами», может легко в них увязнуть.
У Генриха Гейне есть стихотворение, проникнутое горькой печалью:
К ЛАЗАРЮ
Брось свои иносказанья
И гипотезы святые!
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!
Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?
Кто виной? Иль воле Бога
На земле не все доступно?
Или Он играет нами? -
Это подло и преступно!
Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею...
Да ответ ли это, полно?
Хотя и известно, что все аналогии несовершенны, но я люблю к ним прибегать. Вот представьте: существует на белом свете инженер с прекрасной рекомендацией. И говорят, что он даже не может ошибаться, и все его проекты – идеальны во всех отношения. И этот инженер создает некое изделие, которое вскорости выходит из строя, распадается на части. Причем, как выясняется, инженер был прекрасно осведомлен, что именно так все и получится. Но нам заявляют, что инженер ни в чем не виноват, что он хотел только блага, а виновато само изделие… «Это как?» - удивленно спросите вы. Да вот так…
Благой Творец создает Адама – совершенного во всех отношениях человека, без примеси какого либо зла. Затем Творец создает Древо познания добра и зла, которое ни в коем случае нельзя трогать Адаму. Зачем? Почему бы не создать это Древо в другом месте, недоступном для Адама? Но это не все – Творец создает Еву и странного хитрого змея – будущих участников заговора, втягивающих Адама в преступление. А в итоге, когда райское яблочко было съедено, Творец негодует и проклинает весь род человеческий. Но как можно поверить в искренность этого негодования, если нам говорят, что Бог – всеведущий? Т.е. в тот момент, когда Бог замешивал глину для изготовления Адама – Он уже все заранее знал – что из всего этого выйдет. Получается, что Творец создал Адама для грехопадения… За что тогда, страдает все человечество?
Проклятые вопросы философии
У моря пустынного, моря полночного
Юноша грустный стоит.
В груди тревога, сомненьем полна голова,
И мрачно волнам говорит он:
«О разрешите мне, волны,
Загадку жизни -
Древнюю, полную муки загадку,
Уж много мудрило над нею голов -
Голов в колпаках с иероглифами,
Голов в чалмах и черных, с перьями, шапках,
Голов в париках, и тысячи тысяч других,
Голов человеческих, жалких, бессильных…
Скажите мне, волны, что есть человек?
Откуда пришел он? Куда пойдет?
И кто там над нами на звездах живет?»
Волны журчат своим вечным журчаньем:
Веет ветер; бегут облака;
Блещут звезды безучастно холодные;
И дурак ожидает ответа!
Те философские вопросы, с которыми гейневский герой обращается к морским волнам, после того как без успеха обращался к современной ему немецкой идеалистической философии Фихте, Шеллинга и Гегеля, эти «последние», «высшие» или «вечные» вопросы не во все времена обнаружили те свойства, за которые получили характеристику «проклятых». Так называемые «органические» эпохи, когда общественный мир стоит твердо на своих китах, и эти серьезные, флегматичные животные, не тревожимые острыми гарпунами практических противоречий и идейной критики, не проявляют опасной склонности ворочаться с боку на бок и нырять, - органические эпохи, в сущности, не знают проклятых вопросов. Если бы наш симпатичный молодой метафизик адресовал свои вопросы, например, к тому не тронутому капитализмом и культурой натурально-хозяйственному мужичку, который некогда был настоящим «китом» для целого стройного, полного надежд старонароднического мировоззрения, а ныне превратился почти в мифическое существо, - то ответы получились бы определенные и вразумительные, чуждые всякой «тревоги» и «сомнений». Правда, эти ответы не удовлетворили бы, вероятно, нашего героя, может быть, показались бы ему вовсе даже не ответами; но это именно потому, что он - представитель совершенно иной, «критической» или «переходной» эпохи, которая уже выполнила одну половину дела - покончила со старыми ответами, но не успела выполнить другой - покончить со старыми вопросами.
Философское и теологическое образование «мрачного юноши» не может подлежать сомнению. Он знаком со всевозможными ответами, какие когда-либо давались мудрецами человеческого рода на занимающие его вопросы. Почему же он не в состоянии успокоиться ни на одном из этих ответов? Что довело его до такого безнадежного к ним недоверия, что морские волны кажутся ему более компетентными в метафизике, чем мудрые авторы этих ответов, и что даже головы означенных мудрых людей он считает вполне достаточным классифицировать по тем колпакам, которыми они украшены?
Во всех ответах метафизиков и теологов он нашел одно общее и крайне прискорбное свойство: развертываться в бесконечные ряды, не двигаясь с места.
«В чем состоит существо человека?» - спрашивает, например, он, и ему, положим, отвечают: «В бессмертной душе». «А в чем существо этой души?» - спрашивает он тогда. Допустим, что на это дается такой ответ: в вечном стремлении к абсолютному идеалу добра, истины и красоты. «А что такое этот идеал?» - продолжает он; и когда ему дадут определение: идеал этот есть то-то и то-то, - он вынужден спрашивать дальше: «Что есть это самое „то-то и то-то“, которое заняло место сказуемого при подлежащем „абсолютный идеал“»? - и т. д., без конца. Перед ним выступает как будто бесконечный ряд отраженных образов в двух параллельных зеркалах. Успокоиться на каком-нибудь из ответов его ум может так же мало, как его зрение остановиться на котором-нибудь из отражений. Напротив, образы становятся все более тусклыми, ответы все менее понятными, чувство неудовлетворенности возрастает.
Та же история повторяется с каждым из «проклятых» вопросов; и наш юный философ, видя, что не может ни от кого добиться иных ответов, кроме еще более «проклятых», впадает в вполне понятное отчаяние. Мудрецы пытаются объяснить ему, что это совершенно неосновательно, что во всем виноват он сам. Они говорят: «Молодой человек, вы впали в очень грубую ошибку, бесконечно растягивая цепь вопросов. Вы можете, разумеется, по поводу всякой вещи, по поводу всякого определения спрашивать: что такое это? что такое то? - но вопросы эти не всегда имеют разумный смысл. Есть вещи, непосредственно известные, непосредственно очевидные и понятные; всякая попытка определить их, во-первых, бесцельна, потому что они не нуждаются в определении, во-вторых, неосуществима, потому что нет ничего более их известного, через что их можно было бы определить. Раз вы дошли до них, вы достигли цели и должны остановиться; дальнейшие вопросы представляют уже только злоупотребление грамматическими формами и нашим терпением».
Прекрасно, - замечает мрачный юноша, - так будьте же любезны указать мне, где то непосредственно известное, о котором вы говорите. Я спрашивал вас, в чем состоит существо человека; вы мне сказали: в бессмертной душе. Уж не она ли должна быть непосредственно для меня очевидна и понятна?
Конечно, да! - подхватывает один мудрец, - разве вы не чувствуете ее в себе, разве вы не сознаете себя, свое духовное «я», так резко и ясно выделяющееся среди всего мира? Неужели тут нужны еще какие-нибудь определения?
Так вот, представьте себе, что для меня это «я» совсем не ясно и не понятно. Иногда мне кажется, что я его действительно чувствую и отличаю от всего остального; иногда, напротив, оно совсем куда-то ускользает и становится неуловимо; а иногда я замечаю, что оно у меня не одно, а как будто их несколько. Как же мне не спросить, что оно, в сущности, такое?
В этом вы совершенно правы, - снисходительно замечает другой мудрец. - Эмпирическое «я», которое старые богословы смешивали с душою, отнюдь не есть что-либо определенное, - это не более как хаос переживаний. В нем надо выделить то абсолютное, нормальное «я», которое составляет подлинную сущность человеческой личности, ее бессмертную душу. Именно это «я» вы сознаете в себе, когда подчиняете свои переживания высшим этическим, эстетическим и логическим нормам, когда стремитесь к абсолютному добру, красоте, истине.
Увы, почтеннейший, - с грустью отвечает наш герой, - с этими вашими абсолютами дело обстоит для меня еще хуже, чем с душой вообще. Вчера мне казалось, что я стремлюсь к абсолютному добру, отдаваясь порыву патриотической ненависти к врагам отечества и подавляя все противоположные чувства; а сегодня я вижу, что это была оргия пошлого шовинизма, враждебного истинному идеалу. Вчера я старался обуздывать чувственные страсти, стремясь, как мне казалось, к высшей духовной красоте; а сегодня я подозреваю, что в основе этого обуздания лежала просто подлая трусость перед стихийными силами моей собственной природы. Как же мне не спросить вас, что такое ваши абсолютные идеалы?
Очевидно, несчастье молодого философа, а вместе с тем и его отличие от тех мудрецов, которые предлагали ему свои решения вечных задач, сводится к полной невозможности найти в своих переживаниях что-нибудь достаточно определенное и непосредственно-понятное, чтобы оно могло послужить надежным базисом и критерием для всего остального. Если человек старых времен употреблял выражение «моя душа», то он хорошо знал, о чем говорит: то было его сегодняшнее сознание, которое лишь незаметно отличалось от вчерашнего и завтрашнего, которое представляло прочный и консервативный в своих повторениях комплекс переживаний, а потому и воспринималось как нечто вполне известное и само собою понятное. Привычное не возбуждает вопросов и недоумений, человек не может видеть в нем никакой загадки: силою многократного повторения даже самое смутное понятие, как о том свидетельствует вся история религиозных догматов, получает в конце концов окраску величайшей достоверности и очевидности. Различные мелкие божества католической религии, с которыми ежедневно вступает в молитвенное общение итальянский крестьянин, для него ничуть не менее реальны и несомненны, чем его соседи, с которыми он беседует и ссорится. Чем консервативнее сознание, тем больше в нем самоочевидного и самопонятного, - того, что не порождает сомнений, а, наоборот, может служить опорой против всяких сомнений, базисом для надежных и убедительных ответов на всякие вопросы.
В своей психике наш герой не находит ничего достаточно устойчивого и консервативного, ничего настолько «непосредственно-известного», чтобы можно было остановиться и с успокоенным сердцем сказать: «Вот это для меня понятно и не требует ни вопросов, ни объяснений; и так же будет понятно все, что мне удастся свести к этому». Все отвлеченности, которыми угощают его мудрецы, кажутся ему переменными , неопределенными и сомнительными по содержанию. Все определения, которыми ему пытаются помочь, кажутся ему бесплодной игрою со смутными и туманными образами, в которых нет жизни и силы, чтобы материализоваться. «Mobilis in mobili» - «изменяющийся в изменчивой среде», - таково трагическое положение, которое делает совершенно безнадежными, с его точки зрения, все усилия философских голов, без различия их уборов, в деле решения «вечных» вопросов, - вопросов о неизменном и неподвижном в жизни.
На сцену выступает новое лицо, для которого мрачный юноша, к своему удивлению, не находит места в своей классификации философских голов. Это - критик-позитивист, который, вместо измышления ответов на «проклятые» вопросы, ставил вопрос о самых этих вопросах, об их законности и логической состоятельности.
«Вы хотите знать, в чем состоит „сущность“ человека, жизни, мира? - говорит он, - но постарайтесь сначала выяснить себе, что, собственно, подразумеваете вы под этим словом „сущность“. Оно означает неизменную основу явлений, тот абсолютно постоянный субстрат, который скрывается под их непостоянной оболочкой. Это слово имело смысл для ваших предков, которые не знали , что в действительности нет ничего неизменного, ничего абсолютно постоянного. Они выделяли из действительности более устойчивые элементы и сочетания и, считая их, по недостатку наблюдения и опыта, за абсолютно устойчивые, называли их „сущностью“ данных вещей и явлений. Вам же хорошо известно, что абсолютно постоянных комбинаций вовсе нет, что в каждом явлении каждый его элемент может исчезнуть и смениться новым; и если вы, стремясь добраться до сущности, устраните из действительности все, что в ней изменчиво и что, следовательно, не соответствует самому понятию сущности, то у вас ничего не останется. Останется только слово „сущность“, выражающее вашу попытку найти неизменное в изменениях, попытку безнадежную по своей внутренней, логической противоречивости. И все ваши вопросы, в которых фигурирует это слово, так же логически противоречивы, как выражаемое им понятие. В них не больше разумного смысла, чем, например, в вопросе, как велик объем данной поверхности, или из какого дерева сделано железо.
Другие ваши вопросы - о „происхождении“ человека, жизни, мира, - происхождении не в смысле научного опыта и наблюдаемой последовательности явлений, а в смысле абсолютного, внеопытного, творческого первоисточника, - вопросы эти выражают стремление найти последнюю причину всего существующего. Но понятие причины возникло из опыта и относится к опыту, оно выражает связь между одним и другим предметом, между одним и другим явлением; вне отдельных данных предметов и явлений оно лишено всякого смысла. Между тем, то „всё“, о котором вы спрашиваете, отнюдь не есть какой-либо данный предмет или данное явление, - оно есть бесконечно развертывающееся содержание, к которому принадлежат все предметы и явления; применять к нему понятие причины - значит принимать его за нечто данное, ограниченное, - а оно безгранично и никогда не дано нам. И опять-таки ваши предки знали, что говорили, когда ставили вопрос о причине всего, о творении мира. Их „всё“, их „мир“ представлял из себя, действительно, нечто данное и вполне ограниченное, хотя бы в их мысли: им чужда была идея о бесконечности бытия, природа была для них только очень большой вещью, для которой они подыскивали и соответственно большую причину. Но вы, имеющий понятие и об экстенсивной и об интенсивной бесконечности существующего, как можете вы ставить об этой бесконечности вопрос, относящийся только к конечному? Вы, знающий, что „всё“ не есть объект возможного опыта, а только символ его беспредельного расширения, каким образом хотите вы обращаться с этим „всё“, как с одним из таких объектов? Поистине, вопрос ваш подобен вопросу ребенка о том, сколько верст от земли до небесного свода или сколько лет господу богу.
Третий ряд ваших вопросов относится к „смыслу“, т. е. к „цели“, существования человека, жизни, мира. Здесь недоразумение еще очевиднее. Понятие „цели“ заимствовано из психического опыта, из области сознания; оно выражает связь между представлениями сознательного существа и результатами его действий. Следовательно, вопрос о цели мира и жизни заранее предполагает уже наличность какого-то сознательного существа, которое стремится своими действиями достигнуть определенных результатов, т. е., очевидно, обладает определенными потребностями, для удовлетворения которых средством или одним из средств служит мировой процесс и жизнь человека. Но где нашли вы такое существо, и что дает нам право apriori предположить его наличность? Вполне естественно и понятно, что ваши предки, жившие в атмосфере рабства и подчинения, привыкшие во всевозможных случаях жизни играть роль средства для целей чуждого расчета и произвола, что они повсюду присоединяли к наблюдаемым действиям людей, и даже к явлениям мертвой природы мысль о деспотической воле, которой служат эти действия или явления. Но вы, человек, знакомы с идеями свободы и даже с борьбою за свободу, вы, практически отрицающий рабство и подчинение, а теоретически признающий их за пройденную ступень развития человечества, почему в сфере высших обобщений вы ставите вопрос так, будто не можете и вообразить себя иначе, как рабом чьей-то чужой воли? И при этом вопрос ваш оказывается так же мало мотивирован, так же плохо обоснован, как если бы вы, например, спрашивали у голодного человека, по чьей просьбе он собирается обедать, или у падающего с колокольни - по чьему поручению он спешит.
Итак, бросьте эти бессмысленные комбинации слов, называемые „вечными вопросами“; на них не требуется ответа, потому что это - вопросы только по грамматической форме, а не по логическому содержанию; и, кроме отрицания самой их постановки, всякий иной ответ на них был бы такой же, как и они сами, нелепостью».
Юный вопрошатель, прошедший школу кантовской «Критики чистого разума», не может отрицать законности постановки вопроса о критике самых вопросов, которые его занимают. После нескольких возражений и попыток защитить эти вопросы он приходит к выводу, что с формальной стороны отстаивать их - дело безнадежное. Тогда он обращается к своему собеседнику с таким заявлением:
«Я допускаю, что логически вы совершенно правы, что волнующие меня вопросы нелогичны и противоречивы. Но отчего же ваши аргументы, против которых я уже не в силах возражать, не убеждают меня настолько, чтобы я отказался хотя бы от одного из этих вопросов? Отчего, когда я принуждаю себя стать на вашу точку зрения, отвергнутые вопросы напоминают о себе тоской и болью в душе и через минуту вновь всплывают, прорывая всякие логические вопросы? Отчего они так неустранимы из моего сознания и даже кажутся для меня дороже всего остального, что я в нем имею? Я думаю, что не в одной логике дело и что теоретический разум не компетентен отвергать и даже подвергать критике то, что рождается из глубочайших глубин практического разума. Может быть, нелогичность вопросов означает только то, что они выше логики?»
«Мой друг, - отвечает критик-позитивист, - если вам угодно отрицать логику, то никакой спор с вами, никакая попытка убедить вас вообще не могут иметь места. Но посмотрите, до чего жалкий вид имеет то подобие аргументации, которое вы применяете в защите своих вопросов. Разве тоска и боль в душе могут доказать что-нибудь, кроме болезни? Разве неустранимость из сознания не свойственна многим окончательно опровергнутым иллюзиям, например хотя бы иллюзии движения солнца вокруг земли или движения луны вместе с вашей особой, когда вы идете? А ваше соображение, что нелогичное может быть выше, а не ниже логики, - скажите, что может быть печальнее в смысле убедительности, чем такие „может быть - соображения?“. И напрасно вы прячетесь под приоритет практического разума над теоретическим; этот удобный догмат - да не вменится он покойному Канту в день страшного суда! - никак не может отменить логику, ибо то, что называется разумом, по самому понятию „разума“ должно подчиняться логике. Итак, бросьте бесплодные умствования над несуществующими вопросами, - ваши юные силы могут пригодиться на что-нибудь лучшее!»
«Ах, оставьте вы меня в покое, - нервно протестует наш вопрошатель. - Нет для меня на свете ничего ни лучшего, ни худшего, пока не решены эти вопросы; а если они нелепы, то к чему я сам, и не все ли равно, куда я растрачу свои силы? Нет цели, нет смысла в жизни, все течет и изменяется, призраки рождаются из призраков, и ничего нет за ними, кроме бесконечной, сияющей пустоты. К чему мне тогда ваша логика, ваша наука, ваша критика и ваши положительные знания? Не могу я вам поверить, даже если за вас очевидность; ибо что мне в такой холодной, безжизненной очевидности?»
И знаете ли что? - прибавляет вдруг он, останавливая свой пристальный, горящий взгляд на грустно-насмешливом лице своего собеседника, - вы ведь и сами не вполне себе верите. Там, в темной глубине вашей души, осталось то, против чего вы боретесь, что так горячо отрицаете. И я, милостью божией психолог и поэт, которому дано проникать в человеческое сердце дальше, чем другим людям, - я говорю вам: только ваша борьба против этих проклятых вопросов спасает вас от их фатального влияния. Если бы эта борьба кончилась, вы убедили бы всех и самого себя, и некому было бы доказывать то, что вы мне пытались доказать, - эта победа превратилась бы в величайшее поражение. Холод охватил бы вашу опустошенную душу, бездна раскрылась бы перед нею, и из ее темной глубины восстали бы все те же, ненавистные и неизбежные, проклятые вопросы.
Да, этой болезни не вылечит ваша беспощадная хирургия. Вам приходится изрезать всего пациента, - и останется от него только система Iege artis наложенных повязок. Лучше пойду я, неисправимый, допрашивать волны; если они и не сумеют мне ответить, то дадут мне минуту забвения в уносящем всякие вопросы созерцании. А пройдет эта минута, и вновь обступят мою душу проклятые гости, - ну, тогда, может быть, я обращусь к волнам за другой услугой: в их холодных объятиях можно навек избавиться от тревог и сомнений, все смоют они, чистые, прозрачные…
Позитивист удаляется, сострадательно пожимая плечами, и молодой философ остается один со своими мыслями.
Пойдем же и мы, в свою очередь, побеседовать с ним об этих мыслях. Правда, поступая так, мы впадаем в несомненный анахронизм; но что значат анахронизмы для «вечных» вопросов? К тому же мы на три четверти века старше его, потому что явились на свет тремя поколениями позже; и, может быть, тот больший опыт, который стоит за нашими плечами, даст какие-нибудь указания или намеки на выход из той мучительной безысходности, которая так угнетает этого симпатичного идеалиста времен минувших.
Он спрашивает о сущности человеческого сознания, об его последней причине, об его конечной цели: соотносительные вопросы о мире подразумеваются при этом сами собою. Что же получил бы он в случае удачного решения вопросов? В чем их жизненный смысл?
«Сущность» - этот неизменный субстрат изменений - дала бы ему твердую, устойчивую точку опоры в хаосе непрерывного движения, вечной смены форм в нем самом и в окружающей среде. К «сущности» мог бы он апеллировать, на ней успокаиваться каждый раз, как его познание и воля терялись бы в этом хаосе, каждый раз, как опасное головокружение угрожало бы отнять его силы и радость жизни.
А «последняя причина», эта остановка на пути бесконечно развертывающегося в прошлое познания причин? Она, очевидно, была бы также точкой опоры, именно - точкой опоры в прошлом .
Такова же и «конечная цель» - точка опоры в будущем .
Кто ищет для себя с тоской и тревогой точек опоры в жизни? Тот, у кого их нет, кого уносит куда-то, и уносит против его воли, - потому что пловец, добровольно и радостно отдающийся волнам, не мучится в это время тревогой и тоскою по прибрежным скалам.
Уносит против воли и неизвестно куда! Вот в чем трагизм положения нашего идеалиста, и не его одного…
Что же уносит? Космические силы - движение земли вокруг солнца, движение солнца вокруг неизвестного центра?.. Ну, об этом наш философ не особенно беспокоится… С этим давно примирилось его сознание, и законы тяготения кажутся ему достаточной точкой опоры в бесконечном плаваньи по астрономическим безднам. У него срывается даже иногда легкомысленная шутка по поводу космического «perpetuum mobile»:
«А там - это яркое солнце -
Не красный ли спьяну то нос
Властителя мира?
И около этого красного носа
Не спьяну ли мир кружится?»
Над чем весело и беззаботно смеются, к тому не относятся, очевидно, с особенной «тревогой и сомнением», и не из этого движения рождаются фатальные вопросы о точках опоры…
А смерть? Может быть, это она, неизбежная и беспощадная, наполняя сознание инстинктивным страхом, мучительным и смутным, как кошмар, - может быть, она произвела на свет эти злые призраки? Но она для человека - не движение, а конец движения, остановка на пути; и уж, конечно, не из нее возникает задача - найти точку опоры в движении жизни. Устанавливая неопределенные, но тесные границы личному существованию, она может стимулировать, обострить потребности и загадки, возникающие в этих границах, - но не определить собою их содержание. Его исходная точка, во всяком случае, в движении самой жизни.
Но, может быть, нашего поэта-философа пугают и мучат непонятные, стихийные силы его собственной души? Нет, он и их не боится, а, скорее, любит, они дают ему счастье творчества, они зовут его к радости жизни, к борьбе… К борьбе, - но из-за чего? К радостям, - но неужели только для себя? Творчество, - но куда его направить, на что в нем опереться? Вот тут и встают проклятые вопросы. Не вечное движение великого космоса, не волнения и порывы собственной души идеалиста порождают в нем эти вопросы - они только приводят к ним, не более. Источник их лежит вне отдельной личности и вне безразличной стихийности внешней природы.
Где же именно? На это ясно указывает другое стихотворение Гейне, посвященное также «проклятым вопросам», которые там он формулирует ближе к жизни:
Брось свои иносказанья
И гипотезы пустые,
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые:
Отчего под ношей крестной
Весь в крови влачится правый,
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?
Кто виной? Иль богу правды
На земле не все доступно?
Или он играет нами?
Это подло и преступно.
Так мы спрашиваем жадно,
До тех пор, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею…
Да ответ ли это, полно?
Вот где лежит то неразумное и нелогичное в жизни, что наполняет душу тревогой и сомнением и будит в ней неразрешимые вопросы, - оно в социальной жизни людей, в их взаимных отношениях. Непонятны те стихийные силы, которые царят там, нет в них ни логики, ни справедливости; уносят они человека к той судьбе, которой он не хочет и не заслуживает и, что всего ужаснее, которой он не знает… Идет борьба, - но лучшие ли в ней побеждают? Кипит работа, - но кому достанутся ее плоды? Ответы жизни то и дело оказываются так нелепы, так чудовищны, что сердце сжимается от боли и недоумения. Противоречия общественного бытия людей - вот корень проклятых вопросов, осаждающих сознание.
Когда природа всецело властвовала над человеком, тогда неразумное и нелогичное, тяготевшее над его жизнью, находилось совершенно вне его и ему подобных и было ему вполне чуждо. Оно лежало там, где он и не мог искать и требовать ни логики, ни разумности, где он бы мог бояться и умолять, но только не спрашивать. Поэтому в религиозном мировоззрении, выражающем эту фазу развития, проклятых вопросов вовсе нет; те вопросы, которые соответствовали им по внешнему выражению, имели совершенно иное, несравненно менее сложное содержание, и допускали чрезвычайно простые, ясные и достаточно убедительные ответы. Если, например, признавалось, что человек и все живое существует для того, чтобы творить волю божества, то воля эта понималась как чистый произвол, и не философский анализ должен был выяснять ее, а непосредственное откровение. Если было установлено, что «существо человека» состоит в его душе, то уже не возникало дальнейшего вопроса, в чем же существо этой души: она не была соткана из загадочных противоречий, ее простота и жизненная устойчивость не порождали сомнений насчет ее состава и степени ее реальности. Все было на своем месте; и философские сомнения не могли найти дороги в головы, всецело заполненные заботою о непосредственном поддержании жизни.
Ряд решительных побед, одержанных человечеством над внешней природой, протекал нераздельно с коренным преобразованием общественной природы человека. Человек стал существом логическим и этическим .
Первое - логическая форма мышления - явилось более непосредственным результатом возрастающей власти над природою: в твердых логических нормах выразилось прочное обладание целой массою связей и соотношений между комплексами природы. Закон тожества формулирует по преимуществу социальный и непрерывный характер этого обладания: «то, что для меня и в данный момент есть А, является таковым же А и в опыте других людей, а также и в моих последующих воспоминаниях об этом», таков единственно возможный смысл формулы А=А, смысл, вне которого она превращается в бесполезную и безжизненную комбинацию знаков. Закон достаточного основания резюмирует реальное жизненное значение того же обладания - возможность предвидеть будущее, освобождение от непостижимых случайностей и чудес.
Этическое сознание было более косвенным следствием трудового развития человечества. Общество возросло до громадных размеров и глубоко дифференцировалось в зависимости от разделения труда между людьми. Но именно это сделало общество формально-неорганизованной, анархической системой. Материальная жизненная связь сотрудничества между членами и группами общества осталась, но была совершенно замаскирована их формальной обособленностью и борьбою их интересов. Этическое сознание и выразило в себе эту двойственную природу общества, являясь той формою, в которой материальная связь трудовой солидарности ограничивала и обуздывала анархические тенденции групп и личностей в борьбе их интересов. Фетишистический характер этого сознания (абсолютный императив, религиозный или «категорический»), его «непостижимость» вытекала именно из противоречия между реальной связью сотрудничества, составляющей его основу, и скрывающими эту связь - формальной независимостью личностей в трудовом процессе и борьбой между ними. Раз основа ускользает от наблюдения, а проявление обладает очевидной жизненной реальностью и практическим значением, то очень понятно, что оно представляется фетишисту «голосом из другого мира».
Неорганизованная, анархичная форма общественного процесса отдала человека, вышедшего из подчинения стихиям внешней природы, во власть не менее стихийных сил самой общественной жизни, и силы эти понесли человека «неизвестно куда и против его воли». Но существо логическое и этическое уже не могло с первобытным фатализмом и покорностью отнестись к этому положению; оно стало цепляться за то, что обычно давало ему опору в жизни, - за логические и этические формы своего сознания. К непонятному и непреодолимому потоку жизни оно начало предъявлять логическое и этическое требования, которые, конечно, не удовлетворялись, но благодаря этому становились только еще более настоятельными и ощущались еще болезненнее. Обобщенную форму этих требований и представляют «проклятые вопросы».
Громадные различия жизненного опыта людей как членов дифференцированного общества, различия, приводящие к неизбежному в той или иной мере их взаимному непониманию в их сотрудничестве и борьбе, вместе с громадными изменениями в содержании опыта отдельного человека в различных фазах его существования, приводящими к неустойчивости образа собственного «я» человека, создают мучительную потребность в том общем и непрерывном, что господствовало бы над всеми этими различиями и изменениями, что было бы всегда и для всех тожественной точкой опоры в хаосе жизни. Эта потребность, выражаемая в «вечном вопросе» о «сущности вещей», и есть перенесение на «всё», на стихийный поток бытия того требования, которое логика формирует как закон тожества .
Беспомощность личности перед непонятными силами общественного бытия, ее неспособность овладеть ими в познании и практике обостряет потребность причинно представить себе движение этих сил и порождает другой «вечный вопрос» - о всеобщей «причине причин», которая послужила бы отдыхом и успокоением от вечно мелькающих и ускользающих, утомительно сплетающихся и безнадежно запутывающихся причин частных. Это - перенесение на бесконечное той точки зрения, которая логически выражается по отношению к конечным явлениям в законе достаточного основания .
Что касается вопроса о высшей цели бытия, то его смысл еще очевиднее: это страстный вопль бессилия этического сознания перед безнадежной прозаичностью развертывающейся жизненной борьбы. К общественному, к человеческому бытию этический человек не может не предъявлять этических требований; а оно молчаливо издевается над ними, наказывая добродетель и награждая порок. Боль этого противоречия воплощается в вопросе о конечной цели - «проклятом» и «вечном», потому что самые обстоятельства, которые его порождают, ручаются за его неразрешимость.
Итак, тот своеобразный социально-психологический факт, который называется «проклятым» или «вечным» вопросом философии, имеет свой глубоко реальный жизненный базис: это господство стихийности общественных отношений над личностью и ее судьбою. Пока этот базис существует, нельзя и мечтать о полном искоренении означенных вопросов; самая тонкая и сильная философская критика не может уничтожить того, что зарождается гораздо глубже сферы действия критики вообще. В этом смысле прав был наш герой в своей отповеди критику-позитивисту: сам этот позитивист, понятия не имевший об истинной основе критикуемых вопросов, конечно, в глубине души был не настолько свободен от склонности к ним, насколько воображал и высказывал это. Как дитя буржуазного общества, всецело стоя на почве его отношений, как и все, подчиненный их непреодолимой стихийности, - мог ли он не отразить в своей психике это подчинение и эту стихийность?
В ином положении находится его исторический наследник - реалист школы Маркса, современный коллективист. Для него существуют не только сложившиеся буржуазно-капиталистические отношения, но также иные, из них возникающие, и в то же время представляющие их противоположность. Рядом с классами, живущими всецело в атмосфере конкуренции и общественно-трудовой анархии, обусловливающих господство над людьми их собственных отношений, выступает иной класс - пролетариат, представитель растущей товарищеской солидарности, массового объединения сил, с тенденцией подчинить своей организованной воле эти общественные отношения. Появление этого класса создает и новую точку зрения, которая уже позволяет, во-первых, исследовать стихийные силы общественного процесса и, таким образом, познавательно овладеть ими, во-вторых, вести шаг за шагом сознательную борьбу против их реального господства. Таким образом, подрывается самый базис мучительных «вечных» вопросов и возникает впервые возможность их действительного и прочного устранения.
Кто знает тенденцию происходящих в жизни изменений, кто ясно понимает, куда они ведут, и ничего не имеет против их основного направления, а, наоборот, видит в нем прогресс, рост и расширение жизни, тот уже не находится в положении пловца, уносимого течением неизвестно куда и против его воли, тот не ищет отчаянно точек опоры, фиктивных, если нет реальных. Таков коллективист. Ему известна в основных чертах линия развития общественной жизни, известна настолько, что позволяет уже с успехом делать некоторые важные предсказания; и общий смысл этих предсказаний оказывается благоприятным для роста жизни и силы людей. Где совершающиеся изменения не страшны и не враждебны, там нет стремления цепляться за неизменное. К чему коллективисту пустая «сущность» вещей, когда для него раскрываются шаг за шагом полные смысла и содержания законы их движения? К чему неизменная «последняя причина», когда, развертывая одно за другим звенья бесконечной цепи причин, он с каждым новым шагом испытывает гордое чувство победы, возрастания власти над враждебными силами? К чему извне поставленная, чужой волей навязанная «конечная цель» жизни, когда, свободно избирая себе идеал жизни, он убеждается, что ее собственный путь, по которому ведет ее объективный ход ее собственного развития, пролегает в сторону этого же идеала? «Вечные» вопросы отмирают, уходят в прошлое, освобождая место и силы для новых, трудных, но разрешимых вопросов, «временных», но живых и близких - вопросов жизни, а не того, что вне жизни и над нею.
Все эти условия и мотивы успокоения на борьбе и для борьбы существуют в наше время, но их не было или почти не было в эпоху гейневского идеалиста. Поэтому, если бы, вопреки закону истории, к нему явился современный «реалист»-коллективист и попытался изложить свою точку зрения, молодой вопрошатель просто не понял бы, не нашел бы в своей психике тех переживаний, которые составляют действительный смысл и содержание нового понимания жизни. Он пожал бы плечами и сказал бы: «Вы говорите на моем родном языке, каждое слово мне знакомо, а ваша речь в целом совершенно мне недоступна, точно бессмысленный набор слов». Ему нельзя было бы помочь, потому что словами и аргументами нельзя создать нового жизненного содержания.
В 1848 году, среди грозы и бури «безумного года», гейневский идеалист умер, а еще в 1847 коммунистический манифест возвестил миру появление на свет современного «реалиста». Новое жизненное содержание создавалось быстро, его росту и развитию не предвидится конца.
Все изменилось. Теперь уже не «дурак ожидает ответа» от волн холодного, безжизненного моря, а сознательный пловец стремится овладеть волнами кипящего моря жизни, чтобы сделать их грозную силу средством движения к своему идеалу. И на этом пути зарождается новый мир, царство гармоничного и целостного человека, освобожденного от противоречий и принуждения в своей практике, от фетишизма - в познании.
Пусть этот мир не так близок, как думают те, кто слишком смутно представляет его себе; его красота и величие не делаются оттого меньше, борьба за него не перестает быть благороднейшей из всех целей, какие сознательное существо может себе поставить.
Из книги Философия и история философии автора Ритерман Татьяна Петровна Из книги Ответы: Об этике, искусстве, политике и экономике автора Рэнд Айн Из книги Философия в систематическом изложении (сборник) автора Коллектив авторовОбщие вопросы философии Помимо базовых этических принципов, возможна ли вообще объективистская позиция по тому или иному вопросу? Разве позиция человека не должна определяться исключительно им самим, его суждением?Это нечестный вопрос. Что автор считает базовым
Из книги Формирование философии марксизма автора Ойзерман Теодор ИльичБ. Сущность философии с точки зрения положения философии в духовном мире До сих пор мы индуктивным путем выводили черты сущности философии из фактов, носящих название философии, и из понятий о них, как они образовались в истории философии. Эти черты привели нас к функции
Из книги Адвокат философии автора Варава Владимир6. Докторская диссертация. Самосознание и эмпирическая действительность, теория и практика, философия и революция. Диалектика и вопросы истории философии Маркс возвещает о революционном призвании философии, оставаясь пока еще на идеалистических позициях и,
Из книги Марксистская философия в XIX веке. Книга вторая (Развитие марксистской философии во второй половине XIX века) автораВопросы о философии 1. Существует ли основной вопрос философии? С этого вопроса, собственно говоря, и нужно начать, ответив, что основной вопрос философии, конечно, существует и что это есть вопрос о самой философии. Мы так отвыкли от серьезного, что уже считаем нахождение
Из книги Обсуждение книги Т.И. Ойзермана «Оправдание ревизионизма» автора Стёпин Вячеслав СеменовичВопросы около философии 82. В чем действительное различие между людьми? На самом деле разница между философами и не-философами гораздо значительнее, нежели разница между верующими и неверующими, учеными и неучеными и т. д. Это говорит о том, что у людей есть свойство,
Из книги Популярная философия. Учебное пособие автора Гусев Дмитрий АлексеевичВопросы философии 165. Кому нужно, чтобы существовал мир? Кому нужен мир как мир, бытие как бытие? Нужно честно ответить: никому. В том-то и заключен абсурдный и нелепый парадокс, что существование мира не нужно никому: ни человеку, ни человечеству, ни государству, ни
Из книги В поисках «Американской мечты» - Избранные эссе автора Лаперуз СтивенГлава одиннадцатая. Вопросы философии в трудах К. Маркса 70-х – начала 80-х
Из книги автораМетодологические вопросы истории философии Огромное методологическое значение для развития марксистской философии, и особенно в свете современных нам дискуссий о предмете, задачах и методах историко-философского исследования, представляет не только данная Энгельсом
Из книги автора2. Актуальные вопросы современной борьбы по проблемам истории марксистской философии в XIX в. В современной буржуазной марксологической и ревизионистской философской литературе можно выделить две ведущие тенденции в искажении философии Маркса – Энгельса.Первая
Из книги автораВ.А. Лекторский (член-корр. РАН, главный редактор журнала «Вопросы философии») <Род. – 23.08.1932 (Москва), МГУ – 1955, к.ф.н. – 1964 (К проблеме субъекта – объекта в теории познания), д.ф.н. – 1978 (Познавательное отношение: пути исследования его природы), акад. РАО – 1995, чл.-корр. РАН –
Из книги автораВопросы и задания по всему курсу философии Задание № 1. Вспомните, когда и где вам приходилось сталкиваться с понятиями философия, философ, философский. Каким значением они были для вас наполнены? Возможно ли философию определить как специфическую форму духовной
Из книги автораЧасть пятая «Проклятые вопросы» и «Американская мечта» В проблемах и потребностях современной Америки явно просматривается все то, что Джеймс Адамс критиковал и к чему он призывал в свое время. Конечно же, он бы гневно отверг популярную идею «Американской мечты», столь
Идеи и взгляды Ф.М.Достоевского оказали огромное влияние на философию христианского персонализма, наиболее яркими представителями которого в 20 веке стали Н.А.Бердяев и Н.О.Лосский.
В предисловии к своей книге "Миросозерцание Достоевского" Н.А.Бердяев писал: "Достоевский имел определяющее значение в моей духовной жизни. Еще мальчиком получил я прививку от Достоевского. Он потряс мою душу более, чем кто-либо из писателей и мыслителей. Я всегда делил людей на людей Достоевского и людей, чуждых его духу. Очень ранняя направленность моего сознания на философские вопросы была связана с "проклятыми вопросами" Достоевского"1.
Как и для Достоевского, проблема человека как духовной личности стала главной темой для христианского персонализма, как особого религизно-философского течения русской мысли. Человек - микрокосм и тайна мира заключена в человеке. Вне человека нет истории и бытие мира непостижимо, утверждает персонализм. "Весь мир ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой"2, писал Н.А.Бердяев.
Именно потому, что человек является личностью сотворенной по образу и подобию Божию, перед ним и встают "проклятые вопросы", которые необходимо разрешить.
Разрешение этих метафизических вопросов - о Боге, бессмертии, свободе, мировом зле, спасении всех и составляет цель и смысл жизни человека, как и для многих героев Достоевского. Это и есть подлинный путь самопознания, который собственно и делает человека человеком, то есть личностью, утверждает вместе с Достоевским философия персонализма. "Другим одно, а нам, желторотым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша забота", - говорит Иван Карамазов. "Да, настоящим русским вопросы о том: есть ли Бог и есть ли бессмертие, или, как ты говоришь, вопросы с другого конца, - конечно, первые вопросы и прежде всего, да так и надо..."3, - соглашается с Иваном Алеша Карамазов.
Поэтому неслучайно Н.А.Бердяев видит в Достоевском того, кто заново открыл метафизическую природу личности через "проклятые вопросы". "Тут впервые в гениальной диалектике идей "Записок из подполья" Достоевский делает целый ряд открытий о человеческой природе. Человеческая природа полярна, антиномична и иррациональна. У человека есть неискоренимая потребность в иррациональном, в безумной свободе, в страдании"4.
Иван Карамазов, наиболее яркий герой Достоевского, которого мучают "проклятые вопросы" и прежде всего вопросы о Боге, бессмертии, свободе, страдании и всеобщем спасении. Если перевести их на язык философии персонализма, то это проблема теодицеи (оправдания Бога перед лицом мирового зла) и проблема апокатастасиса (всеобщего спасения).
Может быть, наиболее близкой к Ивану Карамазову стала философия свободы Н.А.Бердяева.
Подобно Ивану Карамазову Бердяев не принимает "мира лежащего во зле", но хочет избежать манихейско-гностического дуализма и как следствие бунта против Промысла Божия. Бердяев считает, что рационализм, эвклидов ум, помешали Ивану Карамазову понять тайну свободы и иррациональную природу зла. Рационально нельзя, считал Н.А.Бердяев, обосновать теодицею, так как она связана с тайной свободы. Бердяев стремился создать теодицею исходя из своего учения о бездонно-меонической природе свободы: "Человек эвклидова, вполне рационального ума не может понять, почему Бог не создал безгрешного, блаженного, неспособного ко злу и страданиям мира. Но добрый человеческий мир, мир эвклидова ума отличался бы от злого Божьего мира тем, что в нем не было бы свободы, свобода не входила бы в его замысел, человек был бы добрым автоматом, писал Н.А.Бердяев. Эвклидов рациональный человеческий мир, в котором нет зла, поражен будет страшным злом отсутствия свободы, истреблением свободы духа без остатка. Проблема теодицеи разрешима лишь свободой. Тайна зла есть тайна свободы. Без понимания свободы не может быть понят иррациональный факт существования зла в Божьем мире. В основе мира лежит иррациональная свобода, уходящая в глубь бездны... Свобода заложена в темной бездне, в ничто, но без свободы нет смысла. Свобода порождает зло, как и добро. Поэтому зло не отрицает существования смысла, а подтверждает его. Свобода не сотворена, потому что она не есть природа, свобода предшествует миру, она вкоренена в изначальное ничто. Бог всесилен над бытием, но не над ничто, но не над свободой. И потому существует зло"5.
Целью философии свободы Бердяева было освободить Бога от ответственности за существование зла в мире, которое так часто толкало в 20 веке человека к бунту против Творца, что особенно остро проявилось по его мнению в богоборческой стихии русской революции.
Н.А.Бердяева часто называли "пленником свободы", так как в своем учении он фактически обожествил свободу, поставив ее выше Творца и вновь (как Иван Карамазов) пришел к дуализму.
Н.А.Бердяев и Н.О.Лосский считали проблему всеобщего спасения (апокатастасиса) основной и главной для обоснования теодицеи: "Нельзя сформулировать никакую теодицею в отрыве от учения об апокатастасисе или всеобщем спасении"6, - писал Н.О.Лосский.
Как христианские персоналисты они верили во всеобщее спасение, которое по их мнению является не только оправданием Бога - теодицеей, но и антроподицеей, то есть оправданием человека как личности и в целом смысла жизни.
"Да неужто и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных?"7, - вопрошает великий инквизитор Христа в легенде Ивана Карамазова. Этот вопрос также относится к тем "проклятым вопросам", которые мучают героев Достоевского жаждущих всеобщего спасения, не только праведников, но и грешников. Достаточно вспомнить исповедь Мармеладова в "Преступлении и наказании"8. "И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: "Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!" И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: "Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!" И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: "Господи! Почто сих приемлеши?" И скажет: "Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из них сам не считал себя достойным сего..." И прострет к нам руце свои, и мы припадем...и заплачем... и все поймем! Тогда все поймем!... и все поймут... и Катерина Ивановна... и она поймет...Господи, да приидет Царствие Твое!
Однако проблема всеобщего спасения была одной из основных не только для Достоевского, но и для всей русской религиозно-философской мысли 20 века.
Достаточно перечислить лишь некоторые имена русских мыслителей: о. Сергий Булгаков, Е.Н.Трубецкой, В.И.Несмелов, В.Н.Ильин, Н.А.Бердяев, Н.О.Лосский и др.
Н.А.Бердяев считал, что православному Востоку всегда была более свойственна идея всеобщего спасения, тогда как Западу идея ада. По его мнению, идея вечных мучений грешников в аду восторжествовала в западном христианстве как идея справедливого возмездия и суда Божия. Эта идея "карательной справедливости" по словам Бердяева начинается у блаженного Августина, затем у Фомы Аквинского и завершается у Данте и Кальвина. Уже Августин писал о предопределении и о малом числе спасенных и значительно большем числе осужденных на вечные мучения. Фома Аквинский говорил даже, что избранные будут испытывать радость, видя муки осужденных, от которых они избавлены благодаря "божественной справедливости". Наконец Кальвин дошел в своем учении о "двойном предопределении", до идеи безусловного предопределения Богом одних людей к вечному спасению, а других к вечной гибели вне зависимости от их нравственного состояния и дел веры.
Н.А.Бердяев полагал, что идея ада "скорее манихейская, чем христианская" и в нее вошло древнее чувство мести, перенесенное из времени в вечность.
"Никакого ада как объективной сферы бытия не существует, писал он, это совершенно безбожная идея, скорее манихейская, чем христианская. Поэтому по его мнению совершенно невозможна и недопустима никакая онтология ада"9.
Отрицая ад как "божественную справедливость" и выступая против отнологии ада, Бердяев (как философ свободы и персонализма) вместе с тем допускал, что человек может сам созидать его своей свободной волей. "Ад допустим в том смысле, что человек может захотеть ад, предпочесть его раю, может себя лучше чувствовать в аду, чем в раю"10. Необходимо отметить, что по мысли Н.А.Бердяева только человеческое легкомыслие, связанное с потерей веры в бессмертие отвергает проблему ада и его существования. "Можно поражаться, как люди мало думают об аде и мало мучаются о нем, писал он. В этом более всего сказывается человеческое легкомыслие. Человек способен жить исключительно на поверхности, тогда не предстоит ему образ ада. Потеряв сознание вечной и бессмертной жизни, человек освободил себя от мучительной проблемы ада, сбросив с себя тяжесть ответственности"11.
В отличие от Запада на православном Востоке, по мнению Бердяева, всегда сохранялась вера во всеобщее спасение всех людей во Христе. Русская религиозно-философская мысль 20 века стала продолжательницей этой традиции сотериологии. Только вера во Христа Спасителя всех человеков есть истинный путь спасения от ужаса ада, полагал Бердяев.
"Борьба против ужаса ада возможна только во Христе и через Христа. Вера в Христа, в Христово Воскресение и есть вера в победимость ада. Вера же в вечный ад есть в конце концов неверие в силу Христа, вера в силу дьявола"12.
Сотериология у Бердяева тесно связана и с эсхатологией, она построена на явлении Христа-Спасителя и искупителя, который "пришел не судить мир, но спасти мир" (Иоанн, 12,47) и открыть путь для человека в Царство Божие.
"Явление Христа и есть спасение от ада, который человек уготовляет самому себе, - пишет Бердяев. - Явление Христа означает поворот души от созидания ада к созиданию Царства Божьего. Без Христа-Искупителя и Спасителя Царство Божие для человека недоступно и недостижимо. Нравственные усилия человека не приводят к Царству Божьему. Если нет Христа и нет внутреннего поворота, связанного со Христом, то ад в той или иной форме неотвратим, он естественно создается человеком. Сущность спасения - в освобождении от ада, к которому естественно тяготеет тварь"13. Этот бердяевский "символ веры" во Христа перекликается с известным символом веры Достоевского в письме к Н.Д. Фонвизиной. "Этот символ очень прост, писал Достоевский, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной"14.
Как христианские персоналисты - Н.А.Бердяев и Н.О.Лосский подобно Ивану Карамазову не могли принять "всеобщую гармонию" в раю, если она основана на гибели хотя бы одного человека в аду.
"Нравственное сознание началось с Божьего вопроса: "Каин, где брат твой Авель?" Оно кончится другим Божьим вопросом: "Авель, где брат твой Каин?"15 - писал Бердяев. Подобно Достоевскому, Бердяев исповедовал веру в соборное единство и спасение человечества. "И вместе с тем проливается для меня свет на то, что ад, хотя бы для меня одного, которого в иные минуты я считаю достойным, есть неудача всего творения, есть трещина в Царстве Божьем. И наоборот, писал он, рай для меня возможен, если не будет вечного ада ни для одного живущего и жившего существа. Спасаться в одиночку и в изоляции нельзя. Спасение может быть лишь соборным, всеобщим освобождением от муки". "Мы должны стремиться не только к личному спасению, но и к всеобщему спасению и преображению. Вопрос о том, будут ли все спасены и как наступит Царство Божие, есть последняя тайна, неразрешимая рационально, но мы должны всеми силами нашего духа стремиться к тому, чтобы все были спасены. Спасаться мы должны вместе, миром. Соборно, а не в одиночку. И это очень соответствует духу православия, особенно русского"16.
Другой яркий представитель философии христианского персонализма Н.О.Лосский также как и Н.А.Бердяев считал, что невозможно принять мироздание, в котором лишь немногие спасутся и удостоятся Царства Божия, а множество людей окажутся в вечных адских муках. "Если понять буквально слова "много званных, но мало избранных" (Лука 14,24), если немногие удостоятся Царства Божия, а бесчисленное множество остальных существ обречено на вечные невыносимые страдания в геенне огненной, то мир не заслуживает творения. Мало того, если хотя бы одно существо будет до скончания века подвергаться мучениям, худшим, чем самые страшные пытки, то нельзя было бы понять, каким образом Всеведующий и Всеблагий Бог мог сотворить его. Не могли бы также и мы, а тем более члены Царства признать существование такого мира оправданным"17, писал Н.О.Лосский.
Опираясь на Священное Писание, где, по его мнению, есть указание на конечное спасение всех существ, Н.О.Лосский утверждал, что "никто и ничто не пропадает в мире, все бессмертно, все существа подлежат воскресению", которые рано или поздно вступят в Царство Божие. "Согласно персонализму, утверждал он, не только человек, но и каждый электрон, каждая молекула, всякое растение и животное, даже каждый листок на дереве есть существо, которому открыта возможность, поднимаясь на более высокие ступени жизни, стать действительно личностью и вступить, наконец в Царство Божие"18.
Н.О.Лосский полагал, что область зла ограничена, то есть Бог зла не творил и оно не существует онтологически, но лишь существует как злая воля. Поэтому он считал, что Бог, который "хочет, чтобы все люди спаслись" (1 Тим. 2,4) знает, как спасти грешника не нарушая его свободы.
"В самом деле, писал Н.О. Лосский, один из великих Отцов Церкви, св. Григорий Нисский, указывает на то, что область зла ограничена; отсюда он делает вывод, что грешное существо, исчерпав область зла, в конце концов разочаруется в нем и обратится к добру. Поэтому св. Григорий Нисский убежден, что все падшие существа даже и демоны, достигнут возрождения и восстановления (апокатастасиса) и будут спасены"19.
Подобно Григорию Нисскому, Н.О.Лосский также верил во всеобщее спасение. В своей книге "Бог и мировое зло" обосновывая персоналистическую теодицею он писал: "Во всяком случае, тварные существа, начавшие свою жизнь любовью к абсолютному добру, от века живут в Царстве Божием, а падшие существа, пройдя более или менее длинный путь развития и освободившись от зла, также все рано или поздно становятся постепенно членами Царства Божия. В конце концов все покорится Богу, "да будет Бог все во всем"20 (1 Кор. 15,28).
Здесь необходимо отметить, что апокатастасис как учение о всеобщем восстановлении впервые было выдвинуто еще в раннем христианстве Оригеном. Он учил, что не только весь человеческий род, но даже падшие ангелы - демоны и дьявол, все будут спасены и восстановлены в первоначальном состоянии до своего падения. Это учение явно недооценивало, не признавало силу зла и игнорировало свободу. Апокатастасис как учение принуждало и предопределяло ко всеобщему спасению тех, кто этого не желал и сопротивлялся воли Божией. Православная Церковь осудила это учение на V Вселенском соборе 553 г., так как оно находилось в явном противоречии с Евангелием. В Евангелии неоднократно говорится о загробной судьбе грешников и праведников: "И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную" (Матф. 25,46).
В России в 19 веке о вечности мучений писал свят. Феофан Затворник, а в 20 веке такой выдающийся богослов и исследователь творчества Достоевского как преп. Иустин Попович. "Вечная же судьба грешников будет во всем противоположна вечной судьбе праведников, писал он. Каждый из них согласно своему нравственному состоянию будет принимать вечные муки. Вечное мучение их будет происходить от того, что они будут вечно жить в царстве зла и в обществе творца зла - диавола. Об этом свидетельствуют слова Спасителя, которые в день суда будут сказаны грешникам: "Идите от Мене, проклятии, во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его" (Матф. 25,46). "И идут сии в муку вечную" (Матф. 25,46). "Влюбленные во зло, они, согласно всеправедному суду Божию, таковыми и войдут в жизнь вечную, и этой любовью ко злу они будут жить всю вечность, как добровольно ею жили на земле. Ибо Бог перестал бы быть Богом, если бы насильно отторгнул их от зла и греха"21.
Тема ада и тех, кто туда может попасть, неоднократно обсуждается в последнем романе Ф.М.Достоевского. В "Братьях Карамазовых" Федор Павлович в беседе с Алешей признается ему, что для такого грешника как он обязательно должен существовать ад. "Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру"22. Наиболее полно о тайне мучений нераскаявшихся грешников в аду согласно православной вере излагает в романе старец Зосима: "О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытный; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобно гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога живого без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтоб уничтожил себя Бог и все создание свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти..."23.
Таким образом, Ф.М.Достоевского вряд ли можно причислить к тем религиозным модернистам, которые не признавали традиционное православное учение о спасении и о аде. Скорее сотериологические идеи Н.А.Бердяева и Н.О. Лосского (и других христианских модернистов) восходили ко взглядам Оригена и его школы, которые отвергая Всемилостивый Промысел Божий, противопоставили ему свое учение о спасении - апокатастасис.
Сноски:
1. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001, с. 1
2. Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии. Париж, 1972, с.19.
3. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001, с. 34.
4. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994, с. 112.
5. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991, с. 318.
6. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Л., 1976, с. 234.
7. Роман Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы". Современное состояние изучения. М., 2007.
8. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Л., 1973, с. 21.
9. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993, с. 230.
10. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993, с. 230.
11. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993, с.228.
12. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993, с.239.
13. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993, с.237.
14. Письмо к Н.Д. Фонвизиной, №61, февраль 1854 г.
15. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993, с.237.
16. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994, с.206.
17. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994, с. 378.
18. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994, с.379.
19. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994, с.379.
20. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994, с 380.
21. преп. Иустин (Попович). Догматика Православной Церкви. Эсхатология. М., 2005, с. 136.
22. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Л., 1976, с.23.
23. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Л., 1976, с. 293.