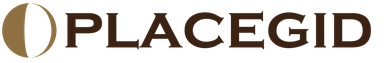Еврейские песни байрона.
В 1815-1816 гг. в Лондоне вышел в свет сборник песен под названием «Еврейские мелодии». У сборника было два автора - поэт Джордж Гордон Байрон и композитор Исаак Натан. В 1813 году сын кантора, двадцатидвухлетний музыкант и композитор (в будущем основоположник австралийской музыки) Исаак Натан обратился к знаменитому писателю Вальтеру Скотту с просьбой написать стихи к старинным мелодиям, им собранным. Композитор утверждал, что аранжировал еврейские песни времён Второго Храма, но слова песен нуждаются в поэтической обработке. Вальтер Скотт отверг предложение Натана о сотрудничестве.
30 июня 1813 года Натан написал письмо Байрону, в котором сделал аналогичное предложение: «Я с большим трудом собрал довольно большое число очень красивых еврейских мелодий, несомненно, очень древних, ряд которых исполнялся евреями до разрушения иерусалимского Храма... Из-за их величественной красоты я уверен, что Вы ими заинтересуетесь, и я убеждён, что никто, кроме лорда Байрона, не сможет воздать им должное...»
С двадцати трёх стихотворений цикла «Еврейские мелодии» можно начинать изучение сионизма. Из них читатель узнаёт о Сионе, рассеянной расе израильтян, Иерусалиме, Святой Земле, царях Сауле, Давиде и Соломоне, пророке Самуиле, плаче Иова, суете сует Экклезиаста, дочери Иеффая, смолкнувшей арфе Иудеи, израненных ногах Израиля, иудейских холмах, роковом пире вавилонского царя Валтасара из пятой главы Книги пророка Даниила, поражении ассирийского царя Сеннахариба под Иерусалимом в Песах 701 до н. э. из тридцать седьмой главы Книги пророка Исайи, разрушении Храма Титом, плаче на реках вавилонских, берегах Иордана (включая Западный берег...).
Первое исполнение мелодий состоялось в 1817 году. Исполнителем был известный еврейский тенор Джон Брайам. Мелодии не могли быть такими древними, какими считал их Натан. Мелодия «На берегах Иордана» - известная ханукальная песня «Маоз Цур». Эту песню на слова поэта тринадцатого века Мордехая бар Ицхака, чьё имя значится в акростихе, евреи поют около пятисот лет на праздник Ханука. Натан, конечно, не знал, что эта еврейская мелодия - немецкая народная песня шестнадцатого века. Байрон превратил религиозные гимны в песни еврейского национального освобождения. Он поэтически передал эпизоды из Библии, изъяв святость. Кто-то из критиков назвал «Еврейские мелодии» Байрона «боевым кличем еврейского национализма».
«Еврейские мелодии» и «Испанцы» М. Лермонтова
Лето 1830 года в Середниково
Лето 1830 года пятнадцатилетний Мишель Лермонтов (шестнадцать ему исполнялось лишь в октябре) провёл “на даче” - в подмосковном имении Середниково. Потом, в 1869 году, оно сменило владельца и было переименовано в Фирсановку, а тогда принадлежало Дмитрию Алексеевичу Столыпину, брату бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Лермонтов только что вышел из московского Благородного пансиона и подал прошение о зачислении в Московский университет, а тем временем читал, занимался самообразованием и писал стихи в огромных количествах: этим годом помечено около ста лермонтовских стихотворений - в основном типично юношеских, во многом несовершенных, но с явным отпечатком таланта.
Из обитателей близлежащих усадеб сложилась компания молодёжи, в основном хорошо знакомой Лермонтову по Москве. В том году дачное сообщество пополнилось Катú Сушковой - “петербургской модницей”, как её шутя аттестовала кузина Лермонтова - Саша Верещагина. Именно у Верещагиных произошло знакомство Сушковой с Лермонтовым. Спустя много лет, в своих Записках она вспоминала: “У Сашеньки встречала я в это время её двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати с красными, но умными, выразительными глазами, со вздёрнутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой”.
Сушкова была на два года старше Лермонтова и очень хороша собой, особенно – большие чёрные глаза. Лермонтов пылко увлёкся красавицей, но она отнеслась к нему снисходительно-пренебрежительно: “Мне восемнадцать лет, я уже две зимы выезжаю в свет, а вы ещё стоите на пороге этого света и не так-то скоро его перешагнёте”. Лермонтов старательно пытался уверить и самого себя, и восемнадцатилетнюю “романтическую старушку” в своём, если не равнодушии, то, во всяком случае, полном самообладании, хладнокровии. Получалось это далеко не всегда.

Автограф стихотворения Лермонтова «Стансы» с портретом Е. Сушковой, 1830.
Из стихотворения СТАНСЫ:
Смеялась надо мною ты,
И я презреньем отвечал -
С тех пор сердечной пустоты
Я уж ничем не заменял.
Ничто не сблизит больше нас,
Ничто мне не отдаст покой...
Хоть в сердце шепчет чудный глас:
Я не могу любить другой...
Осенью Сушкова уехала в Петербург, и в прощальном стихотворении Лермонтов снова пытался разобраться в своих чувствах.
К СУ[ШКОВОЙ ]
Вблизи тебя до этих пор
Я не слыхал в груди огня.
Встречал ли твой прелестный взор –
Не билось сердце у меня.
И что ж?- разлуки первый звук
Меня заставил трепетать;
Нет, нет, он не предвестник мук;
Я не люблю - зачем скрывать!
Однако же хоть день, хоть час
Ещё желал бы здесь пробыть,
Чтоб блеском этих чудных глаз
Души тревоги усмирить.
Снова они встретились только через четыре года, уже в Санкт-Петербурге. За это время Лермонтов успел пережить романтическую влюблённость в Нину Фёдоровну Ивáнову (её инициалы Н.Ф.И. были расшифрованы Ираклием Андронниковым), потом произошла встреча после долгой разлуки с вернувшейся в Москву Варей Лопухиной, и любовь к ней вытеснила прежние юношеские увлечения. С января 1831 году Лермонтов начал посещать занятия в Московском университете, но, увлечённый литературным творчеством, проявил себя не слишком усердным студентом и в июне 1832 года был отчислен из университета "по домашним обстоятельствам". Осенью того же года благодаря хлопотам бабушки и ходатайству влиятельных родственников он был зачислен в привилегированную Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров на правах вольноопределяющегося унтер-офицера Лейб-гвардии Гусарского полка. В декабре был произведен из унтер-офицеров в юнкера.

А. Челышев. Портрет Лермонтова-юнкера, 1830-е гг.
Первый завершённый драматический опыт Лермонтова
Но вернёмся к лету 1830 года. Лермонтов писал не только стихи, обращённые к Сушковой. В те же месяцы была написана пятиактная романтическая трагедия под названием «Испанцы» - его первый завершённый драматический опыт и, в то же время, первая романтическая трагедия в русской литературе, впитавшая влияние немецкой драмы Шиллера и Лессинга и английской романтической поэзии Вальтера Скотта и Джорджа Байрона. Впервые содержание трагедии было пересказано и отрывки из неё опубликованы в 1857 году С.Д. Шестаковым в статье «Юношеские произведения Лермонтова» в журнале Русский вестник, а полностью трагедия была впервые напечатана в 1880 году в издании Юношеские драмы М.Ю. Лермонтова.
Само обращение Лермонтова к испанской теме было неслучайным. В начале XIX века интерес к Испании в России подогревался сопротивлением испанцев Наполеону и ещё более вырос в связи с испанской революцией 1820 года, начавшейся с военного выступления в Кадисе армейских офицеров во главе с генералом Риего, вынудивших испанского короля Фердинанда VII восстановить демократическую конституцию 1812 года и сформировать конституционное правительство. Пушкин писал: “За Пиренеями давно ль судьбой народа Уж правила свобода, И самовластие лишь север укрывал...” В 1823 году французская армия, поддерживаемая державами Священного Союза, вторглась в Испанию и восстановила абсолютную монархию, Риего был казнён.
У Лермонтова был ещё и свой личный интерес ко всему, связанному с Испанией. Вообще-то, Лермонтов считал свой род восходящим к шотландскому барду ХIII века Томасу Лермонту из Эркельдуна по прозвищу Том Рифмач. В 1613 году пленный поручик польской службы Георг Лермонт, поступил на службу к русскому царю Михаилу Фёдоровичу, перешёл в православие и, получив имя Юрия Андреевича, стал родоначальником русской дворянской фамилии Лермонтовых. Любопытно, что и Байрон считал себя потомком Тома Рифмача, но по женской линии – в XVI веке королевский адвокат Гордон Байрон женился на Маргарет Лермонт. Лермонтов этого не знал, а то бы, наверно, был горд родством. Но, не довольствуясь семейным преданием о шотландских предках, Лермонтов связывал свою фамилию также с титулом герцога Лермы – могущественного испанского государственного деятеля рубежа XVI и XVII веков.
Мало того, что гипотетическое происхождение от герцога Лермы напрочь перечёркивало всю шотландскую линию генеалогического древа Лермонтовых, но, кроме того, это была чистейшей воды ничем не подкреплённая фантазия. Тем не менее, Лермонтову почему-то льстила идея причастности к знатному испанскому роду, и среди лермонтовских рисунков 1830-х годов много навеянных испанской тематикой. Пристрастие к ней отразилось и в выборе места действия и сюжета трагедии «Испанцы».

Рисунок М. Лермонтова «Испанец», 1830
Трагедии предпослано Посвящение. Судя по времени написания, ни к кому другому, кроме Сушковой, оно не могло быть обращено, но его содержание плохо вяжется с тем, что мы знаем об их отношениях, и у лермонтоведов так и не сложилось единого мнения о том, кто был адресатом Посвящения. Но если допустить, что Посвящение было написано несколько позже основного массива текста драмы, то можно полагать его адресованным Варе Лопухиной. В пользу этого предположения говорит и явное сходство Эмилии, героини трагедии, на лермонтовском рисунке с Варей Лопухиной на лермонтовском же акварельном портрете.


Два акварельных рисунка М. Лермонтова: иллюстрация к «Испанцам» и портрет Вари Лопухиной
Но возникает вопрос – как же это мы, так прилежно учившиеся в советской школе и почитавшие Лермонтова чуть ли не вровень с Пушкиным, никогда не слышали о его пьесе «Испанцы» и не читали её? Почему в солидных лермонтовских изданиях в разделе «Драмы» обычно печатаются «Странный человек», написанный всего на год позднее, и «Маскарад», а «Испанцев» там и нá дух нет? Нет, конечно, в Собраниях Сочинений Лермонтова пьеса эта печаталась, но - в Приложениях, к которым обращаются разве что литературоведы. В наши дни она выложена в интернете.
Полагать, что это просто несовершенное юношеское произведение, не заслуживающее внимания “массового” читателя, было бы не совсем справедливо. Во многих жизнеописаниях поэта об этой его пьесе нет вообще ни слова, но если уж она упоминается, то только с весьма высокими оценками вроде “одно из значительных произведений русской романтической драматургии 1830-х годов, представляющее собою важный этап в творческом развитии Лермонтова”. Зато далее она описывается совершенно невнятно - например: “в этой трагедии Лермонтов поднял вопросы общественной нравственности” или “гуманистический пафос трагедии тесно связан с прогрессивными литературными традициями, как русскими, так и западноевропейскими”. Так в чём дело? В Лермонтовской энциклопедии, вышедшей в 1981 году, в отдельной статье, посвящённой «Испанцам», сообщается, что Лермонтов “явился продолжателем декабристских традиций, протестуя против сословных и национальных предрассудков, изуверства церковников, против ложных общественных норм. Обострённая обличительная тенденция трагедии Лермонтова имеет общие корни с его политической лирикой. В центре - романтический герой, наделённый мятежной энергией сопротивления. Сила духа, верность высоким идеалам ставят <его> в один ряд с теми образами, в которых проявилась мечта поэта о героической личности...” Вряд ли из этих тирад можно извлечь что-нибудь путное о содержании и направленности трагедии.

«Испанцы». Иллюстрация Г.Н. Петрова, 1940
Причина подобных игр становится ясна уже при обращении к Списку действующих лиц, следующему в лермонтовской рукописи непосредственно за Посвящением. Читаем: “Дон Алварец, дворянин испанский; Эмилия, дочь его; Донна Мария, мачеха её; Фернандо, молодой испанец, воспитанный Алварецом; Патер Соррини, итальянец-иезуит, служащий при инквизиции; Доминиканец, приятель Соррини; Моисей, еврей; Ноэми, дочь его; Сара, старая еврейка; испанцы, бродяги, подкупленные патером Сорринием; жиды и жидовки, служители инквизиции, слуги Алвареца, слуги Сорриния, народ, гробовщики”. Невольно обращает на себя внимание, что Лермонтов именует Моисея и Сару евреями, тогда как, вообще-то, русские писатели того времени, даже далёкие от малороссийской и польской традиций, обычно использовали пренебрежительно-презрительное слово “жид”, при том что именным указом Екатерины II от 10 марта 1785 года было высочайше предписано вывести из обращения это слово, употребляя вместо него “еврей”.
Был ли Лермонтов скрытым евреем или хотя бы филосемитом?
Тому факту, что, как пишет Савелий Дудаков, Лермонтов “был намного сдержаннее по отношению к еврейству, чем его современники”, лермонтовскому, так сказать, “филосемитизму” некоторые исследователи не могут найти иного объяснения, кроме скрытого еврейства самого Лермонтова. Якобы в действительности биологическим отцом Лермонтова был французский еврей Ансельм Левú, домашний врач бабки поэта – Арсеньевой, и ссоры между родителями поэта, одна из которых кончилась тем, что Юрий Петрович ударил Марию Михайловну, что привело к фактическому разрыву между ними и её болезни, ставшей фатальной, были обусловлены не столько легкомыслием и изменами отца, его увлечением некоей немкой-гувернанткой, как принято было считать в советском лермонтоведении, а совсем даже наоборот - неверностью матери поэта. Вспоминают и о “восточных чертах” внешности поэта, на которые обращал внимание Гончаров: “Тут был и Лермонтов...- смуглый, одутловатый юноша как будто восточного происхождения, с чёрными выразительными глазами”. В качестве “довода” в пользу лермонтовского “еврейства” используется даже его увлечение творчеством Рембрандта, также, как писал Леонид Гроссман, “испытывавшего неодолимую тягу ко всему еврейскому”.
Не вдаваясь в вопрос о супружеской верности или неверности Марии Михайловны, хочется лишь отметить, что мне кажется относящимся к делу только возможное или предполагаемое влияние “друга дома”, “учёного еврея” Ансельма Леви на формирование интересов и взглядов Лермонтова. Что же касается других соображений, то, по мне, они выглядят крайне неубедительными и, более того, абсолютно иррелевантными. Речь идёт ведь не о биологической, генной наследственности, не о каких-то врождённых склонностях, а о воспринятой системе ценностей и нравственных оценок. В этом плане важно, что, коли уж так, то Лермонтов был бы не только фактически незаконнорожденным с “еврейской кровью”, но должен бы и сам знать об этом. Это неизбежно нашло бы отражение в светских коллизиях Лермонтова. Однако свидетельств этого не существует.
В качестве противовеса версии исследователей, усматривающих особый филосемитизм Лермонтова, существует иная, на мой взгляд, более взвешенная и убедительная точка зрения, выраженная профессором Стэндфордского университета Габриэллой Сафран: “Для образованного человека пушкинской поры еврейская тема находилась не просто на периферии сознания - она вообще не являлась и не могла являться предметом сколько-нибудь серьёзной рефлексии. Для пушкинских упоминаний о евреях характерно, прежде всего, всякое отсутствие личного чувства и вообще какой бы то ни было индивидуальной окраски. Точно так же несамостоятелен в своих еврейских сюжетах и Лермонтов, чьи «Испанцы» заимствованы у Лессинга, а «Еврейская мелодия» - у Байрона. Называть его на основании этих произведений юдофилом столь же бессмысленно, как и записывать Пушкина в юдофобы. Евреи как таковые занимали обоих поэтов в одинаковой степени, то есть, по сути, не занимали вовсе. Лермонтов просто воспроизводил другие стереотипы, восходящие к западной просвещенческой и романтической традиции”.
Но, справедливости ради, отметим, что Лермонтовым (самостоятельно или под влиянием Ансельма Леви) были выбраны всё-таки именно эти, а не какие-то иные “стереотипы”, и при воспроизведении их у него не возникало реакции отторжения, то есть они легли на достаточно хорошо подготовленную почву. Вспомним, кстати, и последующее, в последний год жизни Лермонтова, его активное увлечение поэзией Гейне – без всякой связи с еврейством, но в полном созвучии со всем строем поэтических мыслей и чувств последнего, чего напрочь не было, скажем, у Тютчева.
Как можно домыслить уже по списку действующих лиц, сюжет лермонтовской трагедии строится на том, что Фернандо, приёмыш дона Алвареца, влюблённый в Эмилию, на самом деле, оказывается по рождению евреем и отстаивает право не только на любимую девушку, но и на человеческое и национальное достоинство. Один из немногих, писавших об «Испанцах», наш современник Александр Бурьяк комментирует: “В центре трагедии - судьба Фернандо. Несчастный найдёныш, он болезненно ощущает свое одиночество. Однако когда герой находит семью, его положение становится ещё более мучительным: ведь родители у Фернандо - евреи. И Лермонтов проявляет здесь симпатию к еврейскому народу, изображая его морально чистым и душевно возвышенным, несмотря на жестокие унижения, которыми он подвергался. Развязка трагедии связана с осуждением Фернандо на казнь и обрушившимися на его отца несчастьями. Главный общественный вывод «Испанцев» - христиане не имеют ни малейшего права ненавидеть и презирать евреев, и прóпасть, созданная между людьми различием веры, есть не более чем предрассудок. К несчастью, он - неотъемлемая часть человеческой природы, злой и уклонившейся от велений Б-жества.” При всей довольно произвольной приблизительности изложения сюжета и морали лермонтовской драмы, вектор её восприятия журналистом понятен. Можно уверенно сказать, что такая тема не только появляется впервые в русской словесности, но, пожалуй, остаётся единственной в своём роде на протяжении чуть ли не всего последующего XIX века (за исключением, пожалуй, стихов Льва Мея). Отсюда, по-видимому, и некая “неловкость” советского литературоведения в обращении к данному произведению. Характерно, что в статье, посвящённой «Испанцам» в Лермонтовской энциклопедии, слово “еврей” вообще не фигурирует, и изложение сюжета заменяется набором общих малосодержательных фраз.
Не слишком удачна была и театральная судьба пьесы. Её сценическая история началась лишь в 1923 году, в московском театре «Романеск», причём в роли Эмилии выступила Розенель-Луначарская. Во второй половине 1930-х годов пьеса Лермонтова была поставлена почти одновременно в нескольких периферийных Театрах Юного Зрителя. Сообщения об этих постановках снова сопровождаются трескучими и совершенно бессодержательными общими словами типа: “«Испанцы» трактовались как пьеса о современном молодом герое”, где “пламенная душа и отвага Фернандо” должны были “служить примером для молодого поколения”, а содержание пьесы каким-то образом связывалось с “испанскими событиями” – Гражданской войной в Испании. В послесталинское время «Испанцы» снова появились в репертуаре периферийных русских театров: Ворошиловграда, Грозного, Петрозаводска, Гомеля, Кимр, Вышнего Волочка, Фрунзе, Якутска, Брянска. Однако, единственная постановка «Испанцев», упоминаемая в Лермонтовской энциклопедии в статье «Театр и Лермонтов» как “имевшая большой успех”, - это спектакль 1941 года московского Государственного еврейского театра (ГОСЕТа), спектакль, о котором практически мало что известно.
Пьеса шла в переводе на идиш Арона Кушнирова, в постановке Исаака Кролля; художник - Роберт Фальк, композитор - Александр Крейн. Спектакль был поставлен незадолго перед войной (в апреле 1941 года) к запланированному пышному “юбилею”- столетию гибели поэта (подобно тому, как в 1937 году отмечали столетие смерти Пушкина), но после начала войны сошёл со сцены.
Обычно отмечается, что трагедия Лермонтова создавалась под влиянием пьесы Годфрида Эфраима Лессинга «Натан Мудрый», написанной в 1779 году, прообразом главного героя которой, как и ранней пьесы Лессинга «Евреи», был немецко-еврейский философ, основоположник и духовный вождь движения Хаскала (“еврейского Просвещения”) Мозес Мендельсон, прозванный “немецким Сократом”. Литературовед Леонид Гроссман в большой статье «Лермонтов и культуры Востока», написанной к лермонтовскому юбилею 1941 года, указал ещё на одно обстоятельство – более чем вероятную связь замысла «Испанцев» с так называемым “Велижским делом”.
Велиж – небольшой городок, уездный центр Витебской губернии, ныне относящийся к Смоленской области. Весной 1823 года там был найден труп “убитого жидами христианского ребёнка” Феди Иванова. Было арестовано 42 члена еврейской общины. Несмотря на жестокие и беззаконные методы следствия и давление церковных властей, администрации и местной “широкой общественности”, собрать материал для обвинения не удалось. Первая судебная инстанция признала обвиняемых невиновными, но дело было возобновлено, и обвиняемые бессрочно оставлены в тюрьме под следствием.
Лермонтов был наслышан о Велижском деле, причём сразу из двух источников. Катú Сушкова сама была в Велиже с осени 1829 года, сопровождая своего дядю Н.С. Беклешова, коему было высочайше поручено проверить действия следственной комиссии. Проверка заняла полгода, но не принесла успеха. Сушкова приехала в Середниково летом 1830 года прямиком из Велижа и, судя по её Запискам, находилась в центре обсуждений этого громкого дела.
Вторым источником был адмирал Николай Семёнович Мордвинов, с которым бабушка Лермонтова находилась в близком свойствé (её брат, обер-прокурор Сената Столыпин, был женат на дочери адмирала). В детстве Мишель Лермонтов называл адмирала “дедушкой Мордвиновым”. У Мордвинова было поместье неподалёку от Велижа, и тамошние евреи, наслышанные о справедливости “барина”, обратились к нему за помощью. Мордвинов представил их прошение Николаю I, настаивая на полной невиновности обвиняемых. Лишь когда в 1834 году дело поступило в Государственный Совет (а Мордвинов был председателем одного из его департаментов), ему удалось доказать, что “евреи пали жертвою... омрачённых предубеждением и ожесточённых фанатизмом следователей”. Государственный совет поддержал Мордвинова и вынес приговор: “евреев-подсудимых от суда и следствия освободить; а доносчиц-христианок сослать в Сибирь на поселение”. Благодарные велижские евреи ввели в одну из молитв дополнительный стих: “И да будет Мордвинов помянут к добру”. Можно ли считать Мордвинова “филосемитом”? Конечно, нет – просто он был высокопорядочный, европейски образованный человек, для которого те самые “западные просвещенческие стереотипы” не были пустым звуком.
«Еврейские мелодии» Байрона в русской поэзии»

И.К. Айвазовский. Море вечером в районе Гурзуфа
И, наконец, был ещё один важный источник вдохновения Лермонтова в его работе над трагедией. Тем же летом 1830 года, когда писались «Испанцы», Лермонтов пишет стихотворение под, можно сказать, неожиданным названием -
ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ
Я видал иногда, как ночная звезда
В зеркальном заливе блестит;
Как трепещет в струях, и серебряный прах
От неё, рассыпаясь, бежит.
Но поймать ты не льстись и ловить не берись:
Обманчивы луч и волна.
Мрак тени твоей только ляжет на ней -
Отойди ж - и заблещет она.
Светлой радости так беспокойный призрáк
Нас манит под холодною мглой;
Ты схватить - он шутя убежит от тебя!
Ты обманут - он вновь пред тобой.
Только по названию, не по содержанию и не по форме, можно догадаться, что перед нами парафраз или, что называется, “по мотивам” одного из стихотворений цикла Еврейские мелодии Джорджа Гордона Байрона, и методом исключения можно выйти на первоисточник этого подражания. Вот перевод этого байроновского стихотворения, сделанный Алексеем Толстым, - лучший из появившихся в XIX веке. Переводы Ивана Козлова, Афанасия Фета, Павла Козлова заметно уступают ему.
СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХ
Неспящих солнце, грустная звезда,
Как слёзно луч мерцает твой всегда,
Как темнота при нём еще темней,
Как он похож на радость прежних дней!
Так светит прошлое нам в жизненной ночи
Но уж не греют нас бессильные лучи;
Звезда минувшаго так в горе мне видна,
Видна, но далека,- светла, но холодна.
Для сравнения возьмём ещё перевод, сделанный в ХХ веке Самуилом Маршаком:
СОЛНЦЕ БЕССОННЫХ
Бессонных солнце, скорбная звезда,
Твой влажный луч доходит к нам сюда.
При нём темнее кажется нам ночь,
Ты - память счастья, что умчалось прочь.
Ещё дрожит былого смутный свет,
Ещё мерцает, но тепла в нём нет.
Полночный луч, ты в небе одинок,
Чист, но безжизнен, ясен, но далёк!..
Переводчик из юного Лермонтова получился скверный: он не только не выдержал авторский метрический размер, увеличил число строк, совершенно ушёл от “сюжета” стиха, но умудрился потерять и основной стихообразующий образ: “Неспящих солнце, грустная звезда…” Но Лермонтова, по-видимому, это меньше всего волновало, и вообще не слишком интересовало – соблюсти правила поэтического перевода, которые тогда ещё и не были окончательно выработаны и сформулированы. Для Лермонтова стихотворение Байрона было таким же “источником вдохновения”, как если бы он собственными глазами увидел вечернюю звезду над зеркальным заливом. Если бы не название, никто бы, наверно, никогда и не связал это стихотворение с Еврейскими мелодиями Байрона, да и найти какую-то специфически “еврейскую” ноту в этом стихотворении вряд ли возможно. Но Лермонтов сам обозначил эту связь.
У меня, кстати, есть очень сильное подозрение, что и замечательное по своей красоте стихотворение молодого Пушкина “Редеет облаков летучая гряда./ Звезда печальная, вечерняя звезда!/ Твой луч осеребрил увядшие равнины,/ И дремлющий залив, и чёрных скал вершины...” восходит к тому же стихотворению Байрона. Оно было написано в 1820 году в Каменке после возвращения из путешествия по Крыму с семейством Раевских и посвящено старшей из сестёр Раевских - Екатерине Николаевне. В этом путешествии она, владея английским, знакомила Пушкина со стихами Байрона. Такое количество совпадений вряд ли случайно. Так что стихотворение вполне могло бы носить подзаголовок «Из Байрона» или даже «Из Еврейских мелодий Байрона» - просто в те годы Пушкин ещё не пользовался такой формулой.
Мне кажется, связь с байроновскими Еврейскими мелодиями просматривается ещё, по крайней мере, в одном лермонтовском стихотворении лета того же 1830 года – «Могила бойца». На первый взгляд, это стихотворение может показаться скорее подражанием бранным песням Тома Рифмача, шотландского предка Лермонтова, но, при том что летом 1830 года Лермонтов внимательно читал и творчески осмысливал именно Еврейские мелодии Байрона, перекличка со стихотворением из этого цикла “Ты кончил жизни путь, герой!..” кажется очень вероятной. Одно стихотворение выглядит как будто бы продолжением другого.

Плач на реках вавилонских... Русская вышивка бисером по холсту, 1840-е гг.
Но это всё – вокруг трагедии, а непосредственно в самый её текст (вторую сцену третьего действия) Лермонтов ввёл ещё одно стихотворение под тем же названием - «Еврейская мелодия», восходящее к 136-му в православной традиции или 137-му по масоретской, иудаистской нумерации псалму из Книги псалмов царя Давида (Псалтири). В нём оплакивается падение Иерусалима. В первоначальном, черновом виде у Лермонтова это звучало так:
***
Плачь! Плачь, Израиля народ,
Ты потерял звезду свою;
Она вторично не взойдёт –
И будет мрак в земном краю.
По крайней мере есть один,
Который всё с ней потерял;
Без дум, без чувств среди долин
Он тень следов её искал!..
Вполне возможно, конечно, что Лермонтов опирался непосредственно на библейский текст, тем более что дети в России традиционно обучались чтению именно по Псалтири, и тексты псалмов были хорошо знакомы любому грамотному человеку. Но в данном случае, проставив название «Еврейская мелодия», Лермонтов, несомненно, имел в виду одно из стихотворений байроновского цикла – перевод Дмитрия Михаловского:
***
О, плачьте о тех, что у рек Вавилонских рыдали,
Чей Храм опустел, чья отчизна - лишь грёза в печали;
О, плачьте о том, что Иудова арфа разбилась,
В обители Бога безбожных орда поселилась!
Где ноги, покрытые кровью, Израиль омоет?
Когда его снова сионская песнь успокоит?
Когда его сердце, изнывшее в казни и муках,
Опять возликует при этих божественных звуках?
О, племя скитальцев, народ с удручённой душою!
Когда ты уйдёшь из позорной неволи к покою?
У горлиц есть гнёзда, лисицу нора приютила,
У всех есть отчизна, тебе же приют лишь могила...
Довольно необычно, что Байрон в этом стихотворении использует цитату из Нового Завета: “Иисус сказал ему: У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнёзда, Сыну же Человеческому негде голову преклонить” (Евангелие от Луки), как бы тем самым уподобляя израильтян Иисусу, что для того времени было совсем нетривиально. Любопытно, что и Лермонтов, следуя Байрону, использует парафраз той же новозаветной цитаты в монологе главного героя своей трагедии «Испанцы» - Фернандо, где тот обращает его уже на самого себя: “У волка есть берлога, и гнездо у птицы, Есть у жида пристанище; И я имел одно – могилу!..”
Лермонтовед Яковлев, анализируя переклички вставного стихотворения лермонтовской трагедии с Еврейскими мелодиями Байрона, именует его “лаконической контаминацией” и “отдалённым пересказом” отдельных строк по крайней мере трёх “библейских” стихотворений Байрона, добавляя, что “других непосредственных текстуальных влияний Байрона в трагедии Лермонтова, кажется, не встречается”. Правда, другие исследователи находят ещё дополнительные, хотя и не всегда убедительные, интертекстуальные связи между юношеской пьесой Лермонтова и Еврейскими мелодиями Байрона. Но пора уже обратиться непосредственно к самомý этому произведению Байрона.


Исаак Натан (1792-1854) и Джон Гордон лорд Байрон (1788-1824)
Осенью 1814 года молодой, но уже всеевропейски знаменитый поэт Джордж Гордон лорд Байрон знакомится с ещё более молодым, подающим большие надежды музыкантом и композитором Исааком Натаном, сыном Кентерберийского хазана (синагогального кантора). Между ними устанавливаются не то чтобы дружеские (уж слишком различно было их общественное положение), но вполне приятельские отношения. Натан загорается идеей создания на основе традиционных сефардских мелодий цикла романсов, текст для которых написал бы Байрон, и целенаправленно знакомит его с еврейским мелосом. Идея была поддержана другом и банкиром Байрона Кинэрдом, и уже в январе 1815 года вышел из печати сборник из 29 стихотворений со следующим предуведомлением поэта: “Нижеследующие стихотворения были написаны по просьбе моего друга, достопочтенного Дугласа Кинэрда. Они печатаются вместе с музыкой, на которую были положены Джоном Брэхэмом и Исааком Натаном”. Имя популярнейшего в Лондоне тенора Джона Брэхема было добавлено, как мы бы сейчас сказали, в рекламных целях - непосредственного участия в написании музыки тот не принимал, но охотно исполнял романсы Натана в светских гостиных. Однако в наше время во многих комментариях именно Брэхем зачастую объявляется основным автором музыки Еврейских мелодий, хотя это и не так. Несмотря на весьма высокую цену в одну гинею, сборник пользовался огромной популярностью: было продано десять тысяч экземпляров - для начала XIX века тираж совершенно фантастический. Впоследствии Джон Брэхем был назван самым знаменитым английским евреем первой половины XIX века, а Исаак Натан, в 1841 году уехавший в Австралию и написавший там первую австралийскую оперу «Дон Хуан Австрийский», провозглашён “отцом австралийской музыки”.
Вскоре Еврейские мелодии Байрона были переведены чуть ли не на все основные европейские языки, в том числе и на русский. В оригинале они носят название Hebrew Melodies, так что правильнее был бы перевод – Древнееврейские (или, хотя бы, Библейские) мелодии, но название прижилось, и тут уже ничего не изменишь: в начале XIX века только иврит (хибру) рассматривался как полноценный еврейский язык.
Первым переводчиком Еврейских мелодий на русский язык был, по-видимому. Николай Гнедич. За ним последовали Нестор Кукольник, Александр Полежаев, Иван Козлов и другие. «Еврейская песня» Кукольника –
С горных стран пал туман на долины
И покрыл ряд долин Палестины.
Прах отцов ждёт веков обновленья,
Ночи тень сменит день возвращенья!
в 1840 году была положена на музыку Михаилом Глинкой. Музыку на стихи из Еврейских мелодий писали затем многие европейские и русские композиторы, в том числе Шуман, Мусоргский, Балакирев, Аренский, В. Абаза, А. Рубинштейн, Гнесин.
В 1904 году в России в серии Библиотека великих писателей, после Шиллера и Шекспира, было издано трёхтомное собрание сочинений Байрона под редакцией Семёна Афанасьевича Венгерова с использованием лучших русских переводов XIX века. В первом томе были, в частности, даны 23 стихотворения из цикла Еврейские мелодии в переводах Дмитрия Михаловского, Алексея Плещеева, графа Алексея Толстого, Ольги Чюминой, Николая Минского, Аполлона Майкова, Николая Гербеля, Павла Козлова. Все эти переводы относятся уже к середине или второй половине XIX века, но одно стихотворение было сохранено в переводе Лермонтова.
Евгений Деген, автор предисловия к Еврейским мелодиям в венгеровском издании, пишет: “Если не считать написанных непосредственно на библейские темы, в числе Еврейских мелодий есть несколько таких, в которых при другом соседстве никто не мог бы усмотреть ничего восточного или библейского - это субъективная лирика чистейшей воды... Из любовных стихотворений, вошедших в цикл, нет ни одного, которое было бы навеяно наивной страстностью Песни песен, и все они носят чисто северный, меланхолический характер.” Когда в советские времена готовилось издание обновлённого Избранного Байрона, перевод именно таких стихотворений из числа Еврейских мелодий и именно в таком ключе был заказан Маршаку, который блистательно справился с поставленной перед ним задачей.
Из лермонтовских стихов, названных поэтом «Еврейская мелодия (из Байрона)», рассматривается как перевод и вошло в “венгеровский свод” лишь одно стихотворение, написанное через шесть лет после «Испанцев» - в 1836 году. Тема взята из Библии - это обращение царя Саула к Давиду. В XIX веке, кроме Лермонтова, это стихотворение переводили Николай Гнедич и Павел Козлов. Лермонтовская версия была положена на музыку Антоном Рубинштейном и Милием Балакиревым, её иллюстрировал Михаил Врубель.

М. Врубель. Саул и Давид, 1890-91
***
Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унёс,
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слёз –
Они растают и прольются.
Пусть будет песнь твоя дикá. Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слёз хочу, певец,
Иль разорвётся грудь от муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал - теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.
Как отмечается в комментариях, “точно передав содержание и систему образов подлинника, Лермонтов усилил его эмоциональное звучание, заменив размер оригинала - четырёхстопный ямб с мужскими рифмами – на чередование строк шести- и четырехстопного ямба с перемежающимися мужскими и женскими рифмами. Неполнота второго стиха (всего три стопы) еще более повысила эмоциональное напряжение.”
Любопытно сравнить лермонтовское стихотворение с современным переводом Василия Бетаки.
***
Как на душе темно! Скорей,
Всё, кроме арфы, тяжко мне!
Пускай же под рукой твоей
Струна растает на струне,
Разбудит тень надежд во мне
Её магическая речь,
Слеза блеснёт в очах на дне
И мозг мой перестанет жечь.
Пусть будет дикой песнь твоя,
И мрачной – звуков глубина!
Певец! Заплакать должен я –
Ведь сердцу радость не нужна
Смертельной вскормлено тоской
В молчанье тягостном оно
Иль разобьётся в час ночной,
Иль песней будет спасено!
Бетаки совершенно точно воспроизводит форму байроновского стиха, но при этом, однако, присущие английской поэзии особенности (в первую очередь – характерное использование исключительно мужских рифм) делают стих несколько монотонным и менее эмоциональным. Тут поневоле вспомнишь Тредиаковского: “Почто что же нам претерпевать добровольно скудость и тесноту французского (в данном случае – английского), имеющим высокородное богатство и пространство словенороссийского?..” Но, конечно, приходится принимать во внимание и то, что Бетаки всё-таки не Байрон и не Лермонтов. Виссарион Белинский в статье 1841 года Стихотворения М. Лермонтова отметил внутреннюю близость его перевода из Байрона основному содержанию лермонтовского творчества: “Это боль сердца, тяжкие вздохи груди; это надгробные надписи на памятниках погибших радостей...”
Лермонтовский спектакль 1941 года «Испанцы» в ГОСЕТе

Соломон Михоэлс (1929-1948), художественный руководитель ГОСЕТа
Как сообщает заведующая рукописным отделом Центральной библиотеки Союза театральных деятелей (СТД) России Наталья Робертовна Балатова, премьера спектакля «Испанцы» по пьесе Лермонтова на сцене Государственного еврейского театра (ГОСЕТ) состоялась 16 апреля 1941 года. В апреле спектакль был показан шесть раз в Москве и затем вместе с другой премьерой - «Блуждающие звёзды» по Шолом-Алейхему - вывезен на гастроли в Ленинград. В журнале Театральная неделя № 16 за 1941 год Михоэлс писал: “Постановка «Испанцев» Лермонтова в Государственном Московском еврейском театре является для нас очень увлекательной, интересной, но в то же время чрезвычайно трудной и ответственной задачей. Если в своём спектакле <нам> удастся передать всю страстность этого трагедийного столкновения, весь мятежный пафос Лермонтова, задача создания подлинного лермонтовского спектакля на еврейском языке будет близка к разрешению.”
Известно, что Михоэлс был принципиальным противником постановки в своём театре пьес, переведенных с русского, считая, что русская драматургия может быть куда лучше представлена русскими театрами на языке оригинала. Он говорил - неужели после пьес Островского в Малом театре кто-нибудь захочет смотреть «Бесприданницу» или «Грозу» на идише? Единственный раз его почти удалось заставить начать работу над постановкой гоголевского «Ревизора», но всё ограничилось блистательным концертным показом сцены Осипа (Михоэлс) и Хлестакова (Зускин). Лермонтовские «Испанцы» были, кажется, единственным исключением. Как я упоминал, в 1941 году планировалось торжественно отметить столетнюю годовщину гибели Лермонтова (как в 37-ом отмечали столетие смерти Пушкина), и от Михоэлса требовали, чтобы ГОСЕТ внёс свой вклад.
На совещании в ГОСЕТе 26 февраля 1941 года “О ходе работы над постановкой «Испанцев»” Михоэлс, обосновывая обращение театра к пьесе и эмоционально трактуя её замысел, говорил о том, что Лермонтов “услышал разряды грома и увидел молнии несправедливости, которые разражались над головой <еврейского> народа”. Балатова комментирует: “Михоэлс увидел в условно-испанских, очень далёких от его времени лермонтовско-шиллеровских страстях момент, волновавший его “сейчас и всегда”, - момент сопряжения историй и культур... народов”.

Еврейский поэт и драматург Арон Кушниров (1890-1949)
Перевод пьесы Лермонтова на идиш был выполнен Ароном Кушнировым. Хранящаяся в Библиотеке СТД стенограмма совещания сохранила текст его выступления: “Я стал искать в «Испанцах» то большое, что есть в зрелом Лермонтове. Я старался, чтобы недостатки, которые безусловно имеются, не заслонили бы собой то большое, что есть в этом произведении. Я поставил перед собой задачу перевести Лермонтова так, чтобы он на новом <для него> языке звучал органически, чтобы читатель и зритель не чувствовали перевода, а чувствовали бы Лермонтова. Были всякие трудности, некоторые слова по-русски звучат хорошо, а в точном переводе на <идиш> приобретают несколько иронический оттенок. Нужно было найти адекватные слова для многих чисто лермонтовских понятий. После той редакции текста перевода, которую мы проделали с товарищами Михоэлсом и Кроллем, «Испанцы» на еврейском языке прозвучали как живое органическое произведение.”
Как позже писал Леонид Гроссман, “в переводе Кушнирова стих «Испанцев» сохранил на сцене ГОСЕТа всю свою энергию, выразительность и мелодичность”.
Исаак Кролль (1898-1942), режиссёр-постановщик спектакля «Испанцы» в ГОСЕТе
В Лермонтовской энциклопедии постановщиком «Испанцев» в ГОСЕТе назван Михоэлс. В действительности же режиссёром постановки был Исаак Кролль при общем художественном руководстве Михоэлса. В то же время в Википедии среди спектаклей, поставленных Кроллем в ГОСЕТе, «Испанцы» почему-то не значатся. Балатова пишет о нём: “Среди других режиссёров, работавших в ГОСЕТе (а это были знаменитые в то время Фёдор Каверин, Меер Гершт, Эммануил Каплан), Исаак Кролль выделялся самобытностью и яркостью таланта. В театре его ценили.” Сообщается, что Кролль погиб в 1942 году на фронте. По другим сведениям, он был эвакуирован из Ленинграда и умер в 1942 году от дистрофии. Так или иначе, спектакль «Испанцы» в ГОСЕТе возобновлён не был – некому было.
Противоречивы и некоторые другие сведения, касающиеся постановки «Испанцев» в ГОСЕТе. Со слов актрисы театра Эльши Моисеевны Безверхней, чей 101-й день рождения был отмечен в феврале этого года в Реховоте (Израиль), главную мужскую роль в спектакле – роль Фернандо – играл Вениамин Зускин. И, как сказала Эльша Моисеевна, “играл замечательно. Впрочем, он всегда играл замечательно.” По данным же, приводимым Балатовой, исполнителем роли Фернандо был один из ведущих актёров театра Яков Гертнер. Участие Зускина в премьерных спектаклях 41-го года, действительно, кажется маловероятным, поскольку параллельно с «Испанцами» театр работал над выпуском спектакля «Блуждающие звёзды», где Зускин играл одну из главных ролей – Гоцмаха. Впрочем, может быть, предполагался ввод Зускина в последующих спектаклях, и Эльше Моисеевне запомнились его репетиции?
Одна из двух главных женских ролей (Эмилии) была поручена жене Зускина - Эде Берковской. Об её участии в спектакле пишет в своих воспоминаниях Путешествие Вениамина их дочь – Алла Зускина-Перельман. При этом она косвенно подтверждает, что роль Фернандо играл не Зускин. И что касается второй главной женской роли – Ноэми, здесь тоже появляются расхождения: Балатова сообщает, что эту роль играла Нехама Сиротинина, а в интернете упоминается исполнение этой роли Марией Котляровой (умерла в 2008 году на 91 году жизни). Роль дона Алвареца играл Абрам Пустыльник; Моисея - Иосиф Шидло; роль иезуита Соррини – Даниил Финкелькраут.
Первая авторская ремарка в пьесе - “Действие происходит в Кастилии”. Лермонтов изображает Испанию ориентировочно ХV-XVII веков, но без точной исторической привязки, так как упоминаемые им временные реалии не стыкуются и противоречат друг другу. С одной стороны, легальное проживание в Испании исповедующих свою веру евреев было возможно только до 1492 года. С другой стороны, наличие среди действующих лиц монаха-иезуита и упоминание в тексте имени Лютера переносят действие пьесы в эпоху, по крайней мере, XVI века, после 1534 года. Впрочем, Лермонтов вряд ли обращал внимание на такие “мелочи”, и его персонажи действуют не в исторической, а в некоей условно-романтической Испании, поэтому и сценография Роберта Фалька, по-видимому, передавала не столько исторически достоверные обстановку и костюмы, сколько образ Испании, созданный классической испанской живописью XVII века – прежде всего Диего Веласкесом. Наверно, определённое влияние оказала и голландская живопись того же XVII века, в первую очередь – портретная галерея обитателей еврейского квартала Амстердама, запечатлённая Рембрандтом.

Диего Веласкес. Портрет молодого испанца.
Герой трагедии, пылкий и благородный Фернандо, безродный найдёныш, воспитанный в доме гордого испанского дворянина дона Алвареца, влюбляется в его дочь Эмилию, которая отвечает ему взаимностью. Но Алварец выгоняет Фернандо за дерзкое помышление жениться на ней. В длинной тираде перед портретами предков он прославляет значимость благородного происхождения и принадлежности к знатному роду. Лермонтова с юных лет занимала проблема общественного неравенства, противостояния знати и простолюдья, различий между ними. В черновой тетради он пишет: “В первом действии моей трагедии молодой испанец говорит, что благородные для того не сближаются с простым народом, что боятся, дабы не увидали, что они ещё хуже его”. В монологе Фернандо эта мысль звучит так: “Боятся эти люди, чтоб тогда Их равенство скорей не увидали...”

Великий инквизитор Испании Томас Торквемада
Фернандо противопоставлен патер Соррини - “итальянец-иезуит, служащий при инквизиции”. Будучи хитроумным, циничным, лживым, корыстным и сластолюбивым мерзавцем, каковым и полагается быть иезуиту в порядочной романтической пьесе, он к тому же ещё и обуреваем преступной страстью к Эмилии. Заручившись помощью донны Марии, мачехи Эмилии, он нанимает банду бродяг, чтобы похитить Эмилию и доставить к нему, а перед этим – убить Фернандо, чтобы не помешал. Один из наёмников говорит о нём: “Признаться, я не верю, чтоб у нас // У каждого одни грехи с ним были. // Мы делаем злодейства, чтобы жить, // А он живёт – чтобы злодейства делать!..”
Наёмники Соррини нападают на Фернандо, но не убивают, а только тяжело ранят. Его спасает и приводит в свой дом Моисей, которого Фернандо перед этим спас от преследования служителей инквизиции. Впрочем, этой схватки Фернандо с убийцами, как и многих других событий пьесы, зритель не видит, а узнаёт о них из рассказов других действующих лиц, что, конечно, снижает драматизм действия.

Мауриций Готлиб. Молодая еврейка
За раненным Фернандо ухаживает дочь Моисея Ноэми, которая влюбляется в него, хотя и сопротивляется этому чувству. Здесь же, в доме Моисея, Фернандо слышит плач об утраченном “Солиме” – Иерусалиме. Эта «Еврейская мелодия» вызывает у Фернандо чувства, наверно, близкие чувствам самого юного Лермонтова:
Поют об родине далеко от неё,
А я в моем отечестве не знаю,
Что значит это сладкое названье...
Я в мире не имею ничего почти,
А всё желал бы больше, но зачем?..
Чтоб новыми желаньями томить
Себя? чтобы опять ловить мечты?
Нет! пусть останусь я, каков теперь;
Пусть никогда не буду счастлив, чтоб
Не сделаться похожим на других...
В страданьях жизнь;
Я в них живу, я к ним привык,
Никто их не разделит... и тем лучше,
Для тех людей, которые б хотели
Их разделить.
От Моисея Фернандо случайно узнаёт о похищении Эмилии людьми Соррини и устремляется в дом Соррини, чтобы спасти её.

«Испанцы». Иллюстрация М.В. Ушакова-Поскочина, 1939
Лермонтов даёт сцену с вполне оперными дуэтами сначала Соррини и Эмилии, затем Соррини и Фернандо. Эмилия умоляет о пощаде и взывает к милосердию Соррини, Фернандо угрожает ему кинжалом, Соррини пренебрегает и мольбами, и угрозами. Трио Соррини, Эмилии и Фернандо, к которому потом присоединяется “хор” слуг Соррини, завершается тем, что Фернандо закалывает Эмилию, чтобы спасти её от бесчестия. В выступлении на совещания о постановке пьесы в ГОСЕТе Исаак Кролль, режиссёр-постановщик, говорил: “Я не знаю <в мировой драматургии> другой такой сцены, когда бы во имя спасения своей возлюбленной герой убивал её”. Мимо оторопевшего Соррини и его слуг Фернадо уходит с телом Эмилии, чтобы отнести его в родительский дом, дом Алвареца. Соррини решает отомстить Фернандо, но не своими руками, а договаривается со своим приятелем Доминиканцем о предании Фернандо суду инквизиции: “Он еретик! он верит Лютеру, И чтит его!..” Так, вслед за Фернандо с телом Эмилии в доме Алвареца появляются служители инквизиции, возглавляемые теми же Соррини и Доминиканцем. Фернандо сначала просит лишь разрешения взять с собой прядь волос, отрезанную с головы мёртвой Эмилии. Когда же Соррини отказывает ему в этом, он бросается на него с кинжалом, но лишь легко ранит; его схватывают и уводят.

Рембрандт ван Рейн. Портрет старика-еврея.
Тем временем Моисей со слов раввина узнаёт, что Фернандо – его некогда утраченный сын. Как старая служанка Сара объясняет Ноэми - “Судьбой неверной, // Бежа от инквизиции, отец твой // С покойной матерью его оставили // На месте том, где ночевали; // Страх помешал им вспомнить, где... // Быть может, думали они, что я Его держала на руках...” И вот теперь каким-то образом открылась истина, что Фернандо и есть тот самый, забытый младенец, затем подобранный Алварецом. Надо сказать, что эта линия наименее проработана Лермонтовым и выглядит не слишком убедительно и правдоподобно. И вот теперь Моисей прибегает к дому Алвареца, когда Фернандо уже уводит инквизиция. Он пытается подкупить Соррини; тот сначала отказывается, но потом, когда все уходят, “берёт мешок с деньгами”, ничего однако не обещая Моисею и даже угрожая ему. Моисей в полном отчаянии:
Ушёл! - и деньги взял, и сына взял,
Оставил с мрачною угрозой!.. о Творец!
О Бог Ерусалима! - я терпел -
Но я отец! - Дочь лишена рассудка,
Сын на краю позорныя могилы,
Имение потеряно... о Боже! Боже!
Нет! Аврааму было легче самому
На Исаака нож поднять... чем мне!..
Рвись сердце! рвись! прошу тебя - и вы
Долой густые волосы, чтоб гром
Небес разил открытое чело!
Рвёт на себе волосы.
Сын! дочь! имение! червонцы!
Всё, всё!.. (ломая руки) потеряно навек!
О горе! горе мне! о горе! горе!
Последняя тирада Моисея кажется очень знакомой. Порывшись в памяти, вспоминаешь, что это, конечно же, Шекспир – «Венецианский купец»: “О дочь моя! Мои дукаты! Дочь! Дукаты христианские мои! Где суд? Закон! О дочь моя!.. Дукаты!..” Первый перевод «Венецианского купца» на русский язык появился только в 1831 году, так что летом 1830 года Лермонтов мог читать пьесу Шекспира разве что в оригинале, но даже если он и не читал её, то приведенные строки наверняка были ему хорошо знакомы – можно совершенно точно сказать, откуда: они проставлены эпиграфом к главе 22-й романа Вальтера Скотта «Айвенго», или как его тогда именовали по-русски «Ивенгое». Роман этот в начале XIX века был исключительно популярен в России, и Лермонтов его, несомненно, читал; прекрасная Ревекка и её отец - Исаак из Йорка явно были одним из прототипов лермонтовских Наоми и Моисея, наряду с персонажами лессинговского «Натана Мудрого».
Финальная картина трагедии представляет собой народную сцену на городской площади. Испанцы толкуют об осуждении Фернандо и его предстоящей казни, толпятся вокруг сошедшей с ума, умирающей от горя Наоми и сопровождающей её Сары. Молодой человек из толпы смотрит на лицо Наоми: “Прелестные черты! когда б печаль // И смерть не истощили их // Красы до половины – что за бледность! // Сара берёт Наоми га руку и вздрагивает: // Свинцу подобны сделалися губы...”
На этом лермонтовская рукопись обрывается – последняя страница тетради с авторским текстом была утрачена, так что любой, кто брался за постановку пьесы, вынужден был сам домысливать её финал.

Мемориальная доска на бывшем здании ГОСЕТа в Москве на Малой Бронной
Исаак Кролль строил финальную сцену следующим образом: “Мы будем кончать спектакль так - лежит Ноэми, у неё нет сил больше двигаться; Сара в отчаянии прислонилась к какому-то углу дома, к какому-то камню. Нет сил у старухи поднять Ноэми, она сделала несколько попыток, но не смогла. Где-то вдалеке звучит Реквием. Это ведут на казнь Фернандо. Опустело место – разошлись любопытные испанцы, ушли те, которым горе Ноэми близко, и те, которым оно ничего не говорит. Лежит Ноэми, плачет Сара. Два брошенных женских существа, две судьбы или, вернее, одна судьба народа. Играет музыка, появляется Моисей, подходит к лежащей Наоми и делает попытку её поднять. Она не поднимается. Он взвалил её на плечи и тем же шагом, каким пришёл на сцену, понёс эту жертву. Моисей с телом Ноэми в сопровождении старой Сары уходят в неведомое пространство – вечный скиталец, согнувшийся под бременем безмерной скорби, одинокий и отверженный, обречённый на изгнание, но сохранивший моральную силу и жизненную мудрость своего древнего народа. Эта немая сцена завершает пьесу”. Идёт занавес.
CСЫЛКИ:
Лермонтов М.Ю. “Испанцы” - см. http://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/ispancy.txt_with-big-pictures.html http://az.lib.ru/l/lemontow_m_j/text_0320.shtml и др. (Воспроизводится по тексту М.Ю. Лермонтов. Собрание сочинений в четырёх томах. Том третий. Художественная литература, Москва: 1965)
Владимирская Н.М.. “Испанцы” , Лермонтовская энциклопедия, Москва: 1981 – см. http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/lre/lre-2001.htm .
Дудаков С.Ю.. Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России. РГГУ, Москва: 2000.
Сафран Г.. “История одного стереотипа”, Лехаим, Октябрь 2005 (см. http://www.lechaim.ru/ARCHIV/162/n3.htm).
Бурьяк А.. “Михаил Лермонтов как enfant terrible русской словесности” – см. http://bouriac.narod.ru/Lermontov.htm .
Левкович Я.Д. “Театр и Лермонтов”, Лермонтовская энциклопедия, Москва: 1981 – см. http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/lre/lre-2001.htm .
Гроссман Л.П. “Лермонтов и культуры Востока: «Испанцы» и Велижское дело”. Литературное наследство. Москва: 1941, с. 715-735.
Воробьёв В.П. “О влиянии «Еврейских мелодий» Байрона на трагедию Лермонтова «Испанцы»” – см. http://volshebnyskazki.ucoz.ru/index/stati_o_lemontove/0-35 .
Балатова Н.Р. “«Испанцы» М.Ю. Лермонтова на сцене ГОСЕТа”, Национальный театр в контексте многонациональной культуры. Шестые Международные Михоэлсовские Чтения, Три квадрата, Москва: 2010, с. 51-62.
Михоэлс С.М. “«Испанцы» Лермонтова”, Статьи, беседы, речи, Искусство, Москва: 1964, с. 235-237.
Гроссман Л.П. “Лермонтов в еврейском театре”, Советское искусство, 1941, № 19.
Вексельман М. “С.М. Михоэлс в Ташкенте”, Семь искусств, март 2011 – см. .
Зускина-Перельман А.В. Путешествие Вениамина. Размышления о жизни, творчестве и судьбе еврейского актёра Вениамина Зускина. Гешарим, Иерусалим – Мосты культуры, Москва: 2002.
Дж. Г. Байронъ
Еврейскія мелодіи.
Предисловіе Ев. Дегена Байронъ. Библіотека великихъ писателей подъ ред. С. А. Венгерова. Т. 1, 1904. Она идетъ въ красѣ своей, перев. Д. Михаловскаго На арфѣ священной монарха пѣвца, перев. О. Чюминой О, если тамъ за небесами, перев. Д. Михаловскаго Газель, перев. А. Плещеева О, плачьте, перев. Д. Михаловскаго На берегахъ Іордана, перев. Д. Михаловскаго Дочь Іефѳая, перев. Павла Козлова Скончалася она.... перев. Д. Михаловскаго Душа моя мрачна, перев. М. Лермонтова Ты плакала, перев. Д. Михаловскаго Ты кончилъ жизни путь, перев. А. Плѳщеева Саулъ, перев. Д. Михаловскаго Пѣснь Саула передъ боемъ, перев. Павла Козлова Все суета, сказалъ учитель, перев. Д. Михаловскаго Когда нашъ прахъ оледенѣетъ, перев. Д. Михаловскаго Видѣніе Вальтасара, перев. О. Чюминой Солнце неспящихъ, перев. гр. Алексѣя Толстого Будь я сердцемъ коваренъ, какъ ты говорилъ, перев. Н. Минскаго Плачъ Ирода о Маріамнѣ, перев. О. Чюминой На разореніе Іерусалима Титомъ, перев. А. Майкова У водъ Вавилонскихъ, печалью томима, перев. А. Плещеева Пораженіе Сенахерима, перев. гр. Алексѣя Толстого Мнѣ призракъ явился, перев. Н. Гербеля
Осенью 1814 г. лордъ Байронъ познакомился черезъ посредство общихъ друзей съ композиторомъ Исаакомъ Натаномъ (Nathan), даровитость котораго вызвала къ нему расположеніе знаменитаго уже тогда поэта. Слава Байрона на родинѣ тогда, какъ и послѣ, состояла изъ слѣдующихъ элементовъ: восторженное признаніе со стороны немногочисленныхъ друзей, успѣхъ среди анонимной массы читателей, охотно раскупавшихъ его поэмы, ворчливая и придирчивая критика присяжныхъ журнальныхъ зоиловъ, и наконецъ репутація безнравственнаго кутилы и опаснаго донжуана, привлекавшая ему эпидемическое поклоненіе свѣтскихъ лэди и суровое осужденіе остальной части чопорнаго англійскаго общества. Высокомѣрное презрѣніе поэта къ своимъ глупымъ, а въ большинствѣ случаевъ и лицемѣрнымъ врагамъ и непрошеннымъ поклонницамъ окрашивалось часто въ безпощадную мизантропію, которой онъ любилъ давать подкладку философскаго пессимизма. Однако это не мѣшало ему испытывать искреннюю и теплую симпатію ко всѣмъ скромнымъ, простымъ душамъ, вступавшимъ безъ предвзятой идеи въ сферу притяженія его обаятельной личности. Къ такимъ именно безпритязательнымъ симпатизирующимъ натурамъ принадлежалъ Исаакъ Натанъ, которому къ тому же, какъ еврею, были чужды англійскія традиціонныя представленія о нравственномъ поведеніи, требующія соблюденія формъ, а не духа общепризнанныхъ законовъ нравственности. Словомъ, между Байрономъ и Натаномъ установилась, если не дружба -- размѣры ихъ личности были слишкомъ несходны для этого,-- то во всякомъ случаѣ расположеніе со стороны поэта, поклоненіе и преданность со стороны музыканта. Предложеніе Натана сочинить текстъ для романсовъ, для которыхъ онъ написалъ бы музыку, было принято Байрономъ, и въ январѣ 1815 г. вся серія "Еврейскихъ мелодій", вдохновившихъ впослѣдствіи столько другихъ выдающихся композиторовъ, была готова къ печати. Мысль эксплуатировать библейскую поэзію внушена была Байрону, конечно, національностью композитора. Востокъ вообще привлекалъ поэтовъ той эпохи, какъ романтическая страна яркой и красивой жизни въ противоположность сѣрой прозѣ окружающей дѣйствительности. Но въ данномъ случаѣ рѣшающимъ моментомъ несомнѣнно являлось близкое знакомство Байрона съ Библіей и любовь его къ ней, какъ поэтическому памятнику. Первое знакомство Байрона съ Библіей относится къ раннему дѣтству: няня его, Мэй Грей, укладывая его спать, пѣла ему пѣсни, разсказывала сказки и легенды, а также заставляла его повторять за ней псалмы; въ числѣ первыхъ вещей, которыя онъ зналъ наизусть, были 1-й и 23-й псалмы. Въ письмѣ 1821 г. изъ Италіи онъ просилъ своего друга Муррэя прислать ему Библію. "Не забудьте этого,-- прибавляетъ онъ,-- потому что я усердный читатель и почитатель этихъ книгъ; я ихъ прочелъ отъ доски до доски, когда мнѣ еще не было восьми лѣтъ,-- т. е. я говорю о Ветхомъ Завѣтѣ, ибо Новый Завѣтъ производилъ на меня впечатлѣніе заданнаго урока, а Ветхій доставлялъ только удовольствіе". На послѣднемъ этапѣ жизненнаго пути поэта, въ Миссолонги, Библія всегда лежала на его столѣ. Сотрудникъ его по греческой экспедиціи, д-ръ Кэннеди, убѣжденный піэтистъ, стремившійся обратить къ религіи великую, но заблудшую душу Байрона, часто бесѣдовалъ съ нимъ о Библіи, но поэта и тогда привлекала больше художественная сторона священныхъ книгъ. "Я помню,-- разсказываетъ одинъ изъ свидѣтелей этихъ бесѣдъ, Финлей,-- онъ (Байронъ) спросилъ доктора (Кэннеди), вѣритъ ли тотъ въ привидѣнія, прочелъ разсказъ о появленіи духа Самуила передъ Сауломъ и сказалъ, что это одно изъ самыхъ величественныхъ мѣстъ Писанія; дѣйствительно, какъ уже часто было отмѣчено, мало кто былъ болѣе начитанъ въ священныхъ книгахъ (чѣмъ Байронъ), и я слышалъ отъ него, что очень рѣдкій день проходитъ, чтобы онъ не прочелъ ту или другую главу изъ маленькой карманной Библіи", которая всегда была при немъ. Разсказъ объ Аэндорской волшебницѣ (1-я кн. Царствъ, гл. XXVIII), конечно, заслуживаетъ вышеприведенный отзывъ, а отзывъ этотъ въ свою очередь показываетъ, какъ тонко умѣлъ Байронъ цѣнить строгую и безыскусственную простоту литературныхъ средствъ такой отдаленной эпохи. Мы имѣемъ въ данномъ случаѣ весьма любопытный примѣръ того, что критическое чутье Байрона порой превосходило его собственную силу поэтической реализаціи. Одно изъ стихотвореній, входящихъ въ циклъ "Еврейскихъ мелодій", подъ заглавіемъ "Саулъ" является переложеніемъ упомянутаго мѣста Библіи, и надо сказать, что при всей звучности Байроновскихъ стиховъ, при всей картинности его образовъ онъ здѣсь далеко не достигъ красоты источника. Появленіе тѣни Самуила описывается у него слишкомъ пространно и эффектно, въ соотвѣтствіи съ распространеннымъ тогда вкусомъ къ загробнымъ ужасамъ: "Земля разверзлась; онъ стоялъ въ центрѣ облака; свѣтъ измѣнилъ свой оттѣнокъ, исходя изъ его савана. Въ его пристальныхъ глазахъ сквозила смерть. Его руки поблекли, его жилы изсохли; его ноги сверкали костлявой бѣлизной, тощія, лишенныя мускуловъ и обнаженныя, какъ у скелета. Изъ его неподвижныхъ губъ, изъ его бездыханной грудной клѣтки исходили глухіе звуки, какъ вѣтеръ изъ пещеры. Саулъ увидѣлъ и упалъ на землю, какъ падаетъ дубъ, сраженный ударомъ грома". Бъ Библіи, какъ извѣстно, Саулъ не видитъ Самуила и только слышитъ его голосъ: "И увидѣла женщина Самуила, и громко вскрикнула... и сказалъ ей царь: не бойся; что ты видишь? И отвѣчала женщина: вижу какъ бы Бога, выходящаго изъ земли.-- Какой онъ видомъ?-- спросилъ у нея Саулъ. Она сказала: выходитъ изъ земли мужъ престарѣлый, одѣтый въ длинную одежду. Тогда узналъ Саулъ, что это Самуилъ, и палъ лицомъ на землю и поклонился." Также романтизованъ другой библейскій мотивъ о "Дочери Іефѳая" (Кн. Суд., гл. XI). Это вообще одно изъ слабѣйшихъ стихотвореній всего цикла, и мы упоминаемъ о немъ лишь для характеристики поэтическихъ пріемовъ Байрона въ данный періодъ. Стихотвореніе Байрона кончается словами дѣвушки къ отцу: "Пусть память обо мнѣ будетъ твоей славой, и не забудь, что я улыбалась, умирая!" Насколько проще и трогательнѣе говоритъ она въ Библіи: "Сдѣлай мнѣ только вотъ что: отпусти меня на два мѣсяца; я пойду, взойду на горы и оплачу дѣвство мое съ подругами моими". Таковы стихотворенія, въ которыхъ Байронъ стремился объективно поэтизировать литературный матеріалъ, заимствованный изъ Библіи. Въ нихъ видно его мастерство, но не видно того высокаго лиризма, который дѣлаетъ его геніальнымъ поэтомъ всегда, когда затронуто лично имъ пережитое чувство. Гораздо ярче поэтому проявился талантъ Байрона тамъ, гдѣ онъ пользуется не эпическими, а лирическими мотивами изъ "Псалмовъ", "Экклезіаста" или "Книги Іова". Особенно близко къ образу мыслей и привычному настроенію автора подходятъ пессимистическія изреченія Экклезіаста о "суетѣ суетъ". Въ стихотвореніи на эту тему онъ съумѣлъ сохранить вѣрность духу (если не буквѣ) подлинника и вмѣстѣ съ тѣмъ дать выраженіе собственному разочарованію въ земныхъ благахъ и радостяхъ. Но далеко не всегда поэтъ придерживается опредѣленнаго библейскаго текста, и многія изъ лучшихъ "Еврейскихъ мелодій" носятъ только легкій восточный колоритъ, а въ сущности представляютъ совершенно оригинальныя по содержанію и по формѣ произведенія. Къ этому числу принадлежатъ всѣ тѣ стихотворенія, въ которыхъ оплакивается печальная судьба избраннаго народа послѣ плѣненія и разселенія по чужимъ землямъ. Въ нихъ отражается присущее постоянно Байрону сочувствіе угнетеннымъ народамъ, и ихъ можно сопоставить съ лучшими мѣстами его поэмъ, посвященными порабощенной Италіи и Греціи. Глубоко прочувствованный мрачный лиризмъ здѣсь соединяется съ необыкновенно выразительными и яркими образами, напоминающими "Плачъ Іереміи". Недаромъ поэты другихъ народовъ, огорченные утратой родины, находили въ этихъ стихотвореніяхъ отзвукъ своимъ чувствамъ и перекладывали ихъ на свой языкъ въ примѣненіи къ своему отечеству. Такъ напр. заключительные стихи прекрасной элегіи "О, плачьте о тѣхъ": "У дикаго голубя есть гнѣздо, у лисицы нора, у людей родина, у Израиля только могила", почти дословно переведены Зигмунтомъ Красинскимъ съ замѣной Израиля полякомъ 1). Къ той же категоріи стихотвореній, имѣющихъ лишь весьма отдаленную связь съ библейскимъ текстомъ, надо отнести и наиболѣе популярное у насъ, вслѣдствіе перевода Лермонтова, стихотвореніе "Душа моя мрачна*. Относительно него Натанъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ анекдотъ, повторяемый за нимъ всѣми біографами великаго поэта, будто бы Байронъ написалъ эти два восьмистишія однимъ почеркомъ пера, какъ бы въ порывѣ безумія, желая посмѣяться надъ ходившей въ обществѣ сплетней, что онъ дѣйствительно одержимъ душевнымъ недугомъ. Едва ли однако этотъ фактъ, если онъ въ дѣйствительности и имѣлъ мѣсто, правильно понятъ очевидцемъ, потому что стихотвореніе это само по себѣ не заключаетъ ничего безумнаго, и если Байронъ и написалъ его въ связи со слухами объ его сумашествіи, то развѣ только съ цѣлью доказать какъ разъ обратное,-- что такую вещь не можетъ создать помѣшанный. Какъ бы то ни было, стихи эти, несомнѣнно, съ особенной яркостью отражаютъ душевное состояніе автора. Это не объективное воспроизведеніе психологіи фиктивнаго іудейскаго царя, а болѣзненный лирическій порывъ, лишь слегка прикрытый экзотической фабулой, напоминающей игру Давида передъ Сауломъ, и въ этой субъективности заключается весьма любопытный психологическій документъ, цѣнный для біографіи поэта. Kaźdy ptach ma swoje gniazdo, Kaźdy robak swoją brylę, Kaźdy człowiek ma cjezyznę, Tylko Polak ma mogiłę. Дѣло въ томъ, что "Еврейскія мелодіи" писались въ періодъ времени, предшествующій свадьбѣ Байрона, когда онъ старался увѣрить себя и другихъ, что онъ поставилъ крестъ на прошломъ, что онъ счастливъ или по крайней мѣрѣ спокоенъ, уравновѣшенъ и способенъ свѣтло смотрѣть въ будущее. И вдругъ такой отчаянный вопль души: "Я хочу плакать, иначе это отягченное сердце разорвется*. Откуда такая подавленность?... Полгода тому назадъ поэтъ забросилъ свой дневникъ, оканчивающійся цитатой изъ "Короля Лира": "Шутъ, я съ ума сойду!" Общественныя и личныя дѣла одинаково плохи и наводятъ только на мрачныя мысли. Во Франціи возстановлены Бурбоны: "Повѣсьте же философію!" -- цитируетъ Байронъ опять Шекспира. Въ личной жизни никакой отрады: "Въ двадцать пять лѣтъ, когда лучшая часть жизни минула, хочется быть чѣмъ-нибудь; а что я такое? Человѣкъ двадцати пяти лѣтъ и нѣсколькихъ мѣсяцевъ -- и больше ничего. Что я видѣлъ? Тѣхъ же самыхъ людей по всему свѣту -- ахъ, и женщинъ къ тому же". Въ прошломъ у него нѣтъ ничего -- настолько ничего, что онъ не хочетъ возвращаться къ своимъ воспоминаніямъ, "какъ песъ на свою блевотину" (еще реминисценція изъ Библіи). Впереди ему улыбается "сонъ безъ сновъ" (еще отзвукъ Шекспира). Старая и несчастная любовь его къ Мэри Чевортъ еще не пережита: она несчастна замужемъ, пишетъ ему дружескія письма, съ грустью и сожалѣніемъ вспоминаетъ о прошедшихъ дняхъ, "счастливѣйшихъ въ ея жизни". Онъ глубоко страдаетъ, старается забыться въ кутежахъ среди веселыхъ гулякъ и доступныхъ подругъ, но еще больше ухудшаетъ состояніе своей души. Имъ овладѣваетъ желаніе прибѣгнуть къ героическому средству для излѣченія: "Я исправлюсь, я женюсь,-- если только кто-нибудь захочетъ взять меня". Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ его будущая жена, Аннабелла Мильбанкъ, не отказалась его взять, и онъ добросовѣстно старается быть достойнымъ ея совершенствъ и быть счастливымъ тѣмъ счастьемъ, которое ему даруютъ. Намѣренія у него прекрасныя и плоть тверда, но духъ немощенъ. Старыя разочарованія отравляютъ новую надежду, старая любовь обезцвѣчиваетъ новую любовь. Въ позднѣйшей своей поэмѣ "Сонъ" онъ утверждаетъ, что даже когда онъ стоялъ передъ алтаремъ рядомъ съ прелестной невѣстой, въ его мысленныхъ взорахъ пронеслась картина послѣдняго, печальнаго свиданія съ другой дѣвушкой,-- пронеслась и исчезла, и онъ стоялъ, спокойный и безпечный, произносилъ положенные обѣты, но не слышалъ собственныхъ словъ, и всѣ предметы кружились вокругъ него..." Вотъ онъ уже счастливый супругъ, и всѣ считаютъ его таковымъ, да и онъ самъ готовъ вѣрить въ свое возрожденіе, но чуткое сердце женщины не могло обмануться: лэди Байронъ съ замѣчательной прозорливостью угадывала, что ея мужъ не пріобрѣлъ покоя своей мятежной душѣ. "Я помню,-- говоритъ Байронъ въ недавно опубликованныхъ сполна "Отрывочныхъ мысляхъ" {Цитируемъ по книгѣ проф. Алексѣя Н. Веселовскаго "Байронъ" М. 1902.}, -- какъ, проведя въ обществѣ цѣлый часъ въ необычайной, искренней, можно даже сказать блестящей веселости, я сказалъ женѣ:-- меня называютъ меланхоликомъ, даже злоупотребляютъ этимъ названіемъ, -- ты видишь сама, Bell, какъ часто это оказывается несправедливымъ.-- Нѣтъ, Байронъ, -- отвѣчала она, -- это не такъ; въ глубинѣ сердца ты -- печальнѣйшій изъ людей, даже въ тѣ минуты, когда кажешься самымъ веселымъ..." Очевидно, "душа его была мрачна" хронически, даже въ промежутокъ времени между успѣшнымъ предложеніемъ и свадьбой, и если онъ на людяхъ старался замаскировать свою мрачность манерами свѣтскаго человѣка, то въ моментъ творчества онъ не въ силахъ былъ лгать себѣ и изливалъ свою душу подъ прозрачною фикціей израильскаго мудреца или царя. Впрочемъ, онъ не всегда прибѣгалъ и къ этому пріему. Въ числѣ "Еврейскихъ мелодій* есть нѣсколько такихъ, въ которыхъ при другомъ сосѣдствѣ никто не могъ бы усмотрѣть ничего восточнаго или библейскаго: это субъективная лирика чистѣйшей воды, и основной тонъ ея все тотъ же безпросвѣтно меланхолическій. Таково необыкновенное по простотѣ и искренности небольшое стихотвореніе "Солнце безсонныхъ", обработанное для музыки многими композиторами: все уже пережито, но и воспоминанія о прошломъ только мерцають безсильными лучами, какъ меланхолическая звѣзда, а грѣть не могутъ. Изъ любовныхъ стихотвореній, вошедшихъ въ циклъ "Еврейскихъ мелодій", нѣтъ ни одного, которое было бы навѣяно наивной страстностью "Пѣсни пѣсенъ", и всѣ они носятъ чисто сѣверный, меланхолическій характеръ, воплощая также несомнѣнно пережитые авторомъ моменты. Одно только, открывающее весь циклъ ("Она шла въ своей красѣ"), по отсутствію тяжелаго раздумья, рѣзко отличается отъ всѣхъ дальнѣйшихъ стихотвореній, несмотря на свое изящество и богатство образовъ; впрочемъ, оно и было присоединено къ остальнымъ лишь впослѣдствіи, и очевидно не слито съ ними единствомъ настроенія. Зато другое ("О, похищенная во цвѣтѣ красоты"), обращенное къ неизвѣстной умершей дѣвушкѣ, вполнѣ поддерживаетъ господствующій тонъ безнадежной грусти: на безвременную могилу, у журчащаго потока, печаль часто будетъ приходить, чтобы склониться изнеможенной головой и напоить свои тяжелыя мысли грезами; все прошло, -- слезами не возвратить невозвратнаго, но это утѣшеніе не осушаетъ ни одной слезы... Таковъ составъ разбираемой группы стихотвореній. Приступивъ къ ней чисто внѣшнимъ образомъ, какъ къ заданной темѣ, поэтъ недолго выдержалъ роль объективнаго виртуоза, а вложилъ тотчасъ же въ свой урокъ дорогія мысли и выстраданныя чувства. Это обезпечиваетъ "Еврейскимъ мелодіямъ" почетное мѣсто среди прочихъ лирическихъ произведеній Байрона, а слѣдовательно и во всемірной поэзіи.
Евг. Дегенъ.
ЕВРЕЙСКІЯ МЕЛОДІИ.
ПРЕДИСЛОВІЕ.
Нижеслѣдующія стихотворенія были написаны по просьбѣ моего друга, Дугласа Кинэрда, для Сборника Еврейскихъ Мелодій. Они напечатаны вмѣстѣ съ музыкой, на которую положены гг. Брэгэмомъ и Натаномъ. Январь 1815. I. ОНА ИДЕТЪ ВЪ КРАСѢ СВОЕЙ. (She walks in beaute). Она идетъ въ красѣ своей, Какъ ночь, горящая звѣздами, И въ глубинѣ ея очей Тьма перемѣшана съ лучами, Преображаясь въ нѣжный свѣтъ, Какого въ днѣ роскошномъ нѣтъ. И много граціи своей Краса бы эта потеряла, Когда бы тьмы подбавить къ ней, Когда бъ луча недоставало, Въ чертахъ и ясныхъ и живыхъ, Подъ черной тѣнью косъ густыхъ. И щеки рдѣютъ и горятъ, Уста манятъ улыбкой нѣжной, Черты такъ ясно говорятъ, О жизни свѣтлой, безмятежной, О мысляхъ, зрѣющихъ въ тиши, О непорочности души. Д. Михаловскій II. НА АРФѢ СВЯЩЕННОЙ МОНАРХА ПѢВЦА. (The harp the monarch minstrel swept). На арфѣ священной монарха пѣвца Струна отзвучала навѣки. Могучею силой волнуя сердца, Она призывала на подвигъ борца, Внимали ей горы и рѣки... И звукъ ея сердцу отрадою былъ, Смягчалися скорбь и обида, И славившій пѣснею Господа силъ, Давидъ псалмопѣвецъ -- затмилъ Царя Іудеи Давида. Властитель народа, избранникъ небесъ, На арфѣ онъ славилъ священной Красу мірозданья, величье вселенной И тайны Господнихъ чудесъ. Пусть звуки тѣхъ пѣсенъ давно отзвучали, Но вѣрою бьются сердца, И къ небу взывая въ тоскѣ и печали, Мы внемлемъ и нынѣ, какъ прежде внимали, Умолкнувшей арфѣ пѣвца. О. Чюмина.
III. О, ЕСЛИ ТАМЪ ЗА НЕБЕСАМИ. (If that high world). О, если тамъ, за небесами, Душа хранитъ свою любовь, И если съ милыми сердцами За гробомъ встрѣтимся мы вновь -- То какъ манитъ тотъ міръ безвѣстный, Какъ сладко смерти сномъ заснуть, Оставить горе въ поднебесной И въ вѣчномъ свѣтѣ потонуть! Не за себя мы, умирая, У края пропасти дрожимъ И, къ цѣпи жизни припадая, Звеномъ послѣднимъ дорожимъ. О, буду счастливъ я мечтою, Что, вѣчной жизнію дыша, Въ безсмертіи съ моей душою Сольется милая душа! Д. Михаловскій. IV. ГА3ЕЛЬ. (The wild gazelle). Газель, свободна и легка, Бѣжитъ въ горахъ родного края, Изъ водъ любого родника Въ дубравахъ жажду утоляя. Газели быстръ и свѣтелъ взглядъ; Не знаетъ бѣгъ ея преградъ. Но станъ Сіона дочерей, Что въ тѣхъ горахъ когда-то пѣли, Еще воздушнѣй и стройнѣй; Быстрѣй глаза ихъ глазъ газели. Ихъ нѣтъ! Все такъ же кедръ шумитъ, А ихъ напѣвъ ужъ не звучитъ! И вы -- краса родныхъ полей -- Въ ихъ почву вросшія корнями, О, пальмы,-- участью своей Гордиться можно вамъ предъ нами! Васъ на чужбину перенесть Нельзя: вы тамъ не стали-бъ цвѣсть. Подобны блеклымъ мы листамъ, Далеко бурей унесеннымъ... И гдѣ отцы почили -- тамъ Не опочить намъ утомленнымъ... Разрушенъ храмъ; Солима тронъ Врагомъ поруганъ, сокрушенъ! А. Плещеевъ.

V. О, ПЛАЧЬТЕ... (Oh! weep for those). О, плачьте о тѣхъ, что у рѣкъ вавилонскихъ рыдали, Чей храмъ опустѣлъ, чья отчизна -- лишь греза въ печали; О, плачьте о томъ, что Іудова арфа разбилась, Въ обители Бога безбожныхъ орда поселилась! Гдѣ ноги, покрытыя кровью, Израиль омоетъ? Когда его снова Сіонская пѣснь успокоитъ? Когда его сердце, изнывшее въ скорби и мукахъ, Опять возликуетъ при этихъ божественныхъ звукахъ? О, племя скитальцевъ, народъ съ удрученной душою! Когда ты уйдешь отъ позорной неволи къ покою? У горлицъ есть гнѣзда, лисицу нора пріютила, У всѣхъ есть отчизна, тебѣ же пріютъ -- лишь могила... Д. Михаловскій.

VI. НА БЕРЕГАХЪ ІОРДАНА. (On Iordans banks). У водъ Іордана верблюды Аравіи бродятъ, Лукавому чтитель его на Синаѣ кадитъ, На кручи Синая Ваалу молиться приходятъ; Ты видишь, о Боже,-- и громъ твой молчитъ! Тамъ, тамъ, гдѣ на камнѣ десница твоя начертала Законъ, гдѣ Ты тѣнью Своею народу сіялъ И риза изъ пламени славу Твою прикрывала, Тотъ мертвъ, кто бъ Тебя Самого увидалъ. Сверкни своимъ взглядомъ разящимъ изъ тучи громовой, Не дай попирать Твою землю свирѣпымъ врагамъ; Пусть выронитъ мечъ свой изъ длани властитель суровый; Доколь будетъ пустъ и покинутъ Твой храмъ? Д. Михаловскій. VII. ДОЧЬ IЕФѲАЯ. (Iepha"s Daughter). Если смерть юной дѣвы нужна, Чтобъ отчизна была спасена Отъ войны, отъ неволи, отъ бѣдъ... Мой отецъ! свой исполни обѣтъ!.. Но, отецъ! кровь моя такъ чиста, Какъ минуты послѣдней мечта; О, открой мнѣ объятья свои И предъ смертію дочь осѣни! Я свою ужъ забыла печаль, Съ жизнью мнѣ разставаться не жаль, И, убитой любимой рукой, Будетъ милъ мнѣ могильный покой. И хоть плачетъ Солимъ за меня, Не смущайся, будь твердый судья! Чтобъ отчизна не знала цѣпей, Не жалѣю я жизни своей. Но, когда кровь застынетъ моя, И въ груди ужъ не будетъ огня, Вспоминай иногда, мой отецъ, Что съ улыбкой мной встрѣченъ конецъ! Павелъ Козловъ.

VIII. СКОНЧАЛАСЯ ОНА... (Oh, snatched away in beauty bloom). Скончалася она во цвѣтѣ красоты... Не будетъ громоздкой плиты здѣсь надъ могилой; Надъ ней распустятся роскошные цвѣты Душистыхъ раннихъ розъ, съ весенней свѣжей силой, И тихо зашумитъ здѣсь кипарисъ унылый. И грусть придетъ сюда, съ поникшей головой, И склонится вонъ тамъ, у синяго потока, Отдавшись рою грезъ, задумавшись глубоко; Иль будетъ здѣсь ходить неслышною стопой И шагъ свой замедлять, оглядываться, слушать... Какъ будто можетъ кто сонъ мертваго нарушить!.. Довольно! знаемъ мы: напрасно слезы лить -- Да, смерть безчувственна, она глуха къ печали, Но это можетъ-ли отъ скорби отучить, Иль плачущимъ внушить, чтобъ менѣе рыдали? Ты говоришь -- я долженъ позабыть, Но самъ ты слезъ не можешь скрыть, У самого тебя какъ блѣдны щеки стали! Д. Михаловскій.
ДУША МОЯ МРАЧНА. (My soul is dark). Душа моя мрачна. Скорѣй, пѣвецъ, скорѣй! Вотъ арфа золотая: Пускай персты твои, промчавшися по ней, Пробудятъ въ струнахъ звуки рая. И если не на вѣкъ надежды рокъ унесъ -- Онѣ въ груди моей проснутся, И если есть въ очахъ застывшихъ капля слезъ -- Онѣ растаютъ и прольются. Пусть будетъ пѣснь твоя дика. Какъ мой вѣнецъ, Мнѣ тягостны веселья звуки; Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ, Иль разорвется грудь отъ муки. Страданьями была упитана она, Томилась долго и безмолвно; И грозный часъ насталъ -- теперь она полна, Какъ кубокъ смерти, яда полный. М. Лермонтовъ. X. ТЫ ПЛАКАЛА. (I saw thee weep). Ты плакала: когда слеза Лазурь очей твоихъ покрыла, Казалось, свѣтлая роса На землю съ неба нисходила. Ты улыбалась -- и алмазъ Предъ ними долженъ былъ затмиться: Съ живымъ огнемъ лучистыхъ глазъ Не можетъ въ блескѣ онъ сравниться. Какъ солнце тучамъ цвѣтъ даетъ, Въ нихъ нѣжнымъ отблескомъ играя, Который съ гаснущихъ высотъ Не вдругъ прогонитъ тьма ночная, Такъ ты улыбкою своей Веселье въ мракъ души вливаешь И отблескъ радостныхъ лучей На грустномъ сердцѣ оставляешь. Д. Михаловскій.

XI. ТЫ КОНЧИЛЪ ЖИЗНИ ПУТЬ. (The days are done). Ты кончилъ жизни путь, герой! Теперь твоя начнется слава -- И въ пѣсняхъ родины святой Жить будетъ образъ величавый, Жить будетъ мужество твое, Освободившее ее! Пока свободенъ твой народъ, Онъ позабыть тебя не въ силахъ. Ты палъ, но кровь твоя течетъ Не по землѣ, а въ нашихъ жилахъ; Отвагу мощную вдохнуть Твой подвигъ долженъ въ нашу грудь. Врага заставимъ мы блѣднѣть, Коль назовемъ тебя средь боя; Дѣвъ нашихъ хоры станутъ пѣть О смерти доблестной героя; Но слезъ не будетъ на очахъ: Плачъ оскорбилъ бы славный прахъ. А. Плещеевъ. XII. САУЛЪ. (Saul) -- "Чаръ твоихъ могучихъ сила Можетъ мертвыхъ подымать: Тѣнь пророка Самуила Я молю тебя призвать!" -- "Самуилъ, возстань изъ гроба! Царь, вотъ онъ передъ тобой!" И разверзлася утроба Мрачной пропасти земной; Подъ могильной пеленою Призракъ въ облакѣ стоялъ; Свѣтъ померкнулъ передъ тьмою И предъ саваномъ бѣжалъ. Неподвижный взоръ могилы: Очи -- будто изъ стекла; Желты руки, сухи жилы, И нога, какъ кость, бѣла: Въ темнотѣ она блистала, Обнаженна и мертва... Это тѣло не дышало... Изъ недвижныхъ губъ слова Предъ трепещущимъ Сауломъ Пронеслись подземнымъ гуломъ, Вѣтра ропотомъ глухимъ. И Саулъ упалъ -- смущенный -- Въ прахъ, какъ крѣпкій дубъ, сраженный Вдругъ ударомъ громовымъ. -- "Кто мой сонъ смутилъ отрадный, Вызвалъ тѣнь изъ нѣдръ земныхъ? Царь, взгляни: я призракъ хладный, Крови въ жилахъ нѣтъ моихъ. Завтра будетъ то-жъ съ тобою: Прежде чѣмъ на небесахъ День погаснетъ -- подъ землею Будетъ твой гніющій прахъ. Завтра этотъ міръ оставишь: Ты подъ тучей стрѣлъ въ бою Упадешь -- и самъ направишь Мечъ тяжелый въ грудь свою. Близко, близко это время! Смерть лишитъ тебя вѣнца -- И Саулово все племя Истребится до конца!" Д. Михаловскій. XIII. ПѢСНЬ САУЛА ПЕРЕДЪ БОЕМЪ. (Song of Saul before nis last battle). 1. О, вожди! если выйдетъ на долю мою Предъ Господнимъ народомъ погибель въ бою, Не смущайтесь! на битву идите смѣлѣй, Пусть узнаютъ враги силу нашихъ мечей! 2. Ты, несущій за мною мой лукъ и мой щитъ, Если войско мое отъ врага побѣжитъ,-- То не дай пережить мнѣ тотъ мигъ роковой, Пусть умру я, сраженный твоею рукой!.. 3. О, мой сынъ, мой наслѣдникъ, побѣда насъ ждетъ; Вѣрь,-- для насъ торжества чудный мигъ настаетъ, Вѣрь, что славою вновь нашъ засвѣтитъ вѣнецъ, Иль съ тобой, какъ бойцы, мы свой встрѣтимъ конецъ!. Павелъ Козловъ


XIV. ВСЕ СУЕТА, СКАЗАЛЪ УЧИТЕЛЬ. (All is Vanity, said the preacher). Все мнѣ было судьбою дано: Власть и мудрость, и слава, и сила, Въ моихъ кубкахъ сверкало вино, Мнѣ любовь свои ласки дарила. Я въ лучахъ красоты согрѣвалъ Мое сердце, душа въ нихъ смягчалась, Все, чего-бъ только смертный желалъ, Съ блескомъ царскимъ въ удѣлъ мнѣ досталось. Но напрасно стараюсь открыть Въ прошломъ я изъ всего прожитого,- Что могло-бы меня обольстить, Что желалъ-бы извѣдать я снова. Я не зналъ ни единаго дня Наслажденья безъ горькой приправы, Даже блескъ, окружавшій меня, Былъ мнѣ пыткой среди моей славы. Полевую змѣю укротитъ Заклинаній волшебная сила; Но чья власть ту ехидну смиритъ, Что кольцомъ своимъ сердце сдавила? Мудрость мага надъ ней не властна, Не плѣнятъ ея музыки звуки, И душа, гдѣ гнѣздится она, Изнывать будетъ вѣчно отъ муки. Д. Михаловскій.


XV. КОГДА НАШЪ ПРАХЪ ОЛЕДЕНИТЪ. (When coldness wraps this suffering clay). Когда нашъ прахъ оледенитъ Нѣмая смерть -- куда свободный, Безсмертный духъ нашъ полетитъ, Оставивъ этотъ прахъ холодный? Планетъ-ли путь онъ изберетъ, Или, съ пространствомъ слившись разомъ, Все во вселенной обойметъ Незримымъ, но всезрящимъ глазомъ? Онъ, вѣчный, будетъ созерцать, Что въ небѣ и въ землѣ творится, И изъ забвенья вызывать -- Что смутно въ памяти таится. Малѣйшій слѣдъ былыхъ временъ, Прошедшее съ грядущимъ рядомъ Схватить способенъ будетъ онъ Однимъ широкимъ мысли взглядомъ. Назадъ чрезъ хаосъ проникать До дней, какъ творческая сила Міры задумала создать И нашу землю населила; Впередъ онъ взоры устремитъ Туда, въ грядущее вселенной... Пусть пламя солнца догоритъ, Но духъ пребудетъ, неизмѣнныи. Освободившись отъ сѣтей Его стѣсняющаго праха, Поднявшись выше всѣхъ страстей -- Любви, вражды, надежды, страха,-- Онъ будетъ мыслію летѣть Надъ всѣмъ, чрезъ все, преградъ не зная, Забывъ, что значитъ умереть И вѣчно въ вѣчности витая... Д. Михаловскій.

XVI. ВИДѢНІЕ ВАЛТАСАРА. (Vision of Belshazzar). 1. Пируетъ царь; сатрапы въ рядъ Престолъ владыки окружаютъ, Огни безчисленныхъ лампадъ Чертоги пышно озаряютъ. На недостойномъ празднествѣ, Въ сосудахъ пѣнится священныхъ И посвященныхъ Іеговѣ -- Вино язычниковъ надменныхъ. 2. Вдругъ на одной изъ стѣнъ -- о чудо! Всѣ видятъ руку,-- и она, Явясь невѣдомо откуда, Чертитъ предъ ними письмена. И, ужасъ чувствуя глубокій, Дивились люди той рукѣ, Чертившей, словно на пескѣ, Свои таинственныя строки. 3. И Валтасаръ блѣднѣетъ вдругъ Предъ непонятнымъ приговоромъ; Въ лицѣ, въ очахъ его -- испугъ, И молвитъ онъ съ тревожнымъ взоромъ: "Людей мудрѣйшихъ и волхвовъ Позвать сюда безъ замедленья; Пусть объяснятъ они значенье -- Прервавшихъ пиръ -- волшебныхъ словъ". 4. Волхвами славится Халдея И мудрый опытъ ихъ глубокъ, Но тутъ стоятъ они, блѣднѣя, Предъ тайной этихъ дивныхъ строкъ. Изъ Вавилона старецъ вѣщій Съ другими старцами предсталъ, Но смысла надписи зловѣщей Никто изъ нихъ не разгадалъ. 5. Тогда томившійся въ неволѣ Какой-то мальчикъ молодой Открылъ, покорный царской волѣ, Значенье тайны роковой; Что было вѣщими устами Съ закатомъ дня возвѣщено,-- Заутра, съ первыми лучами, Сбылось воочію оно: 6. "Падутъ твердыни Вавилона, Неотразимъ судьбы ударъ, И съ высоты надменной трона Сойдетъ въ могилу Валтасаръ: Могильный саванъ -- не порфира -- Одѣнетъ скоро царскій станъ; Его престолъ -- во власти Кира, У вратъ его -- войска мидянъ". О. Чюмина.
XVII. СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХЪ. (Sun of the sleepness). Неспящихъ солнце, грустная звѣзда, Какъ слезно лучъ мерцаетъ твой всегда, Какъ темнота при немъ еще темнѣй, Какъ онъ похожъ на радость прежнихъ дней! Такъ свѣтитъ прошлое намъ въ жизненной ночи Но ужъ не грѣютъ насъ безсильные лучи; Звѣзда минувшаго такъ въ горѣ мнѣ видна, Видна, но далека,-- свѣтла, но холодна. гр. Алексѣй Толстой.
XVIII. БУДЬ Я СЕРДЦЕМЪ КОВАРЕНЪ, КАКЪ ТЫ ГОВОРИЛЪ. (Were my bosom as false as thou deemed it to be). Будь я сердцемъ коваренъ, какъ ты говорилъ, Отъ Шалима вдали я-бъ теперь не бродилъ. Мнѣ лишь было отречься отъ вѣры отцовъ, Чтобъ стряхнуть съ себя сразу проклятье вѣковъ. Ты, я знаю, безгрѣшенъ: грѣшитъ только рабъ, Ты правдивъ и могучъ -- я преступенъ и слабъ, Но пускай я и смертью свой грѣхъ не сотру, Въ своей вѣрѣ живи, а въ моей -- я умру. За нее я терялъ, сколько дать ты не могъ, И про то знаетъ Онъ, насъ карающій Богъ, Моя скорбь и надежда во власти Его, А въ твоей -- моя жизнь, что отдамъ за Него. Н. Минскій.
XIX. ПЛАЧЪ ИРОДА О МАРІАМНѢ. (Herod"s lament for Mariamne). Маріамна! То сердце, по чьей пролилася винѣ Неповинная кровь, -- и само обливается кровью! Жажда мести и гнѣвъ улеглися во мнѣ, Презрѣньемъ смѣнясь и любовью. Маріамна, гдѣ ты? Если-бъ стоны и вопли мои Донеслися къ тебѣ, для которой раскрылась могила, Ты простила-бы мнѣ въ безконечной любви, Если-бъ небо само не простило! Неужели мертва? И убійцы наемнаго мечъ Совершилъ приговоръ, повинуяся мести ревнивой? Онъ виситъ надо мной, нити жизни готовясь пресѣчь, Надъ собой приговоръ я свершу справедливый. Холодна и мертва! Отъ меня ты на вѣки ушла, Я стенаньемъ моимъ твой загробный покой не нарушу, Я покинутъ тобой, а спасти ты одна-бы могла Только ты -- эту мрачную душу. Съ кѣмъ дѣлилъ я вѣнецъ -- той со мною ужъ болѣе нѣтъ. И, утративъ ее, схоронилъ я всѣ радости съ нею, Я сорвалъ для меня одного распустившійся цвѣтъ -- Іудеи прекрасной лилею! Мною кровь пролита, и за страшное дѣло мое Мнѣ геенна грозитъ, заслужилъ я душою преступной Гнетъ мученій моихъ, истерзавшихъ ее И терзающихъ вновь неотступно! О. Чюмина.
XX. НА РАЗОРЕНІЕ ІЕРУСАЛИМА ТИТОМЪ. (On the day of the destruction of Jerusalem by Titus). Съ холма, гдѣ путники прощаются съ Сіономъ, Я видѣлъ градъ родной въ его послѣдній часъ: Пылалъ онъ, отданный свирѣпымъ легіонамъ, И зарево его охватывало насъ. И я искалъ нашъ храмъ, искалъ свой бѣдный домъ, Но видѣлъ лишь огня клокочущее море... Я на руки свои, въ отчаяньи нѣмомъ, Взглянулъ: онѣ въ цѣпяхъ -- и мщенья нѣтъ! о, горе! Ахъ! съ этого холма, бывало, я глядѣлъ На городъ въ этотъ часъ: ужъ мракъ надъ нимъ клубился, И только храмъ еще въ лучахъ зари горѣлъ, И розовый туманъ на высяхъ горъ свѣтился. И вотъ я тамъ-же былъ и въ тотъ послѣдній часъ; Но не манилъ меня заката блескъ пурпурный. Я ждалъ, чтобъ Іегова, во гнѣвѣ ополчась, Ударилъ молніей и вихрь послалъ свой бурный... Но нѣтъ... въ Твой храмъ святой, гдѣ Ты, Господь, царилъ, Не сядутъ, не войдутъ языческіе боги! Твой зримый храмъ упалъ, но въ сердцѣ сохранилъ На вѣки твой народъ, Господь, Тебѣ чертоги! А. Майковъ.

XXI. У ВОДЪ ВАВИЛОНСКИХЪ, ПЕЧАЛЬЮ ТОМИМЫ. (By the river of Babylon we sat down and wept). У водъ вавилонскихъ, печалью томимы, Въ слезахъ мы сидѣли, тотъ день вспоминая, Какъ врагъ разъяренный по стогнамъ Солима Бѣжалъ, все мечу и огню предавая. Какъ дочери наши рыдали! Онѣ Разсѣяны нынѣ въ чужой сторонѣ... Свободныя волны катились спокойно... "Играйте и пойте!@ враги намъ сказали. Нѣтъ, нѣтъ! Вавилона сыны не достойны, Чтобъ наши имъ пѣсни святыя звучали; Рука да отсохнетъ у тѣхъ, кто врагамъ На радость ударитъ хоть разъ по струнамъ! Повѣсили арфы свои мы на ивы. Свободное намъ завѣщалъ пѣснопѣнье Солимъ, какъ его совершилось паденье; Такъ пусть-же тѣ арфы висятъ молчаливы: Во вѣкъ не сольете со звуками ихъ, Гонители наши, вы пѣсенъ своихъ! А. Плещеевъ. XXII. ПОРАЖЕНІЕ СЕННАХЕРИМА. (The destruction of Sennacherib). Ассиріяне шли какъ на стадо волки, Въ багрецѣ ихъ и въ златѣ сіяли полки, И безъ счета ихъ копья сверкали окрестъ, Какъ въ волнахъ Галилейскихъ мерцаніе звѣздъ. Словно листья дубравные въ лѣтніе дни, Еще вечеромъ такъ красовались они; Словно листья дубравные въ вихрѣ зимы, Ихъ къ разсвѣту лежали развѣяны тьмы. Ангелъ смерти лишь на вѣтеръ крылья простеръ И дохнулъ имъ въ лицо, и померкнулъ ихъ взоръ, И на мутныя очи палъ сонъ безъ конца, И лишь разъ поднялись и остыли сердца. Вотъ, расширившій ноздри, повергнутый конь, И не пышетъ изъ нихъ гордой силы огонь, И какъ хладная влага на брегѣ морскомъ, Такъ предсмертная пѣна бѣлѣетъ на немъ. Вотъ и всадникъ лежитъ, распростертый во прахъ, На бронѣ его ржа, и роса на власахъ; Безотвѣтны шатры, у знаменъ ни раба, И не свищетъ копье, и не трубитъ труба. И Ассиріи вдовъ слышенъ плачъ на весь міръ, И во храмѣ Ваала низверженъ кумиръ, И народъ, не сраженный мечомъ до конца, Весь растаялъ, какъ снѣгъ, передъ блескомъ Творца! гр. Алексѣй Толстой.
XXIII. МНѢ ПРИЗРАКЪ ЯВИЛСЯ. Изъ Іова. (A spirit passed before me). Мнѣ призракъ явился -- и я безъ покрова Безсмертье увидѣлъ! На смертныхъ палъ сонъ, Лишь я отвратить отъ пришельца святого Не могъ своихъ глазъ, хоть безплотенъ былъ онъ. И дрогнуло тѣло и дыбомъ сталъ волосъ -- И слуха коснулся божественный голосъ: "Ужель человѣкъ справедливѣе Бога, Когда серафимы -- подножье Его? Васъ червь долговѣчнѣй, вы прахъ отъ порога. А лучше-ль, правдивѣе-ль вы отъ того? Созданіе дня, вы живете до ночи: Предъ мудрости свѣтомъ слѣпотствуютъ очи!". Н. Гербель.

Приложение:
XXIV. Еврейская мелодія. I saw thee weep... Я видѣлъ грусть твою - горючая слеза Туманила и жгла небесные глаза - Твой образъ въ этотъ мигъ исполненъ былъ враси Фіалки полевой подъ искрами росы. Я видѣлъ, какъ позднѣй, въ любви и счастья часъ, Кораллъ волшебныхъ устъ улыбка освѣтила - И понялъ я тогда, что той улыбки сила Огнемъ своимъ затмитъ сверкающій алмазъ. Какъ солнца лучъ живой, въ іюльскій знойный день, По тучамъ грозовымъ скользитъ горячимъ свѣтомъ И на небѣ потомъ, ужъ въ сумракѣ одѣтомъ, Упорствуя дрожитъ и гонитъ ночи тѣнь - Дитя! такъ точно, вѣрь, твоей улыбки лучъ Для сердца скорбнаго прекрасенъ и могучъ, Мерцая свѣточомъ, въ ея унылой мглѣ, Душѣ - утратившей надежду на землѣ!.. Конст. Ивановъ . "Вѣстникъ Европы", No 4, 1874
ЕВРЕЙСКІЯ МЕЛОДІИ.
Стр. 389. "Она идетъ"... Это стихотвореніе написано было Байрономъ по возвращеніи съ бала, гдѣ онъ въ первый разъ увидѣлъ жену одного своего родственника. Анну Вильмотъ-Гортонъ (портретъ ея на стр. 393). Она была одѣта въ черное платье, усѣянное блестками. "На арфѣ священной"... "При царѣ Давидѣ музыка пользовалась у евреевъ большимъ уваженіемъ. Музыкальныя способности царя, который съ любовью теоретически и практически изучалъ это искусство, точно такъ же, какъ и значительное количество музыкантовъ, призванныхъ имъ къ исполненію религіозныхъ обрядовъ и церемоній, не могли не содѣйствовать усовершенствованію музыки и усиленію ея вліянія; въ ту пору музыка впервые была введена въ составъ богослуженія". (Берней). Натанъ разсказываетъ, что въ первоначальной рукописи, принесенной ему Байрономъ, стихотвореніе оканчивалось стихомъ: "И тайны Господнихъ чудесъ". Натанъ просилъ поэта, ради музыкальной законченности, прибавить еще нѣсколько строкъ. "Что же дѣлать? Я васъ вознесъ на небеса, дальніе, кажется, трудно идти"! сказалъ Байронъ. Въ это время вниманіе композитора было на нѣсколько минутъ отвлечено кѣмъ-то другимъ; онъ думалъ, что Байронъ уже ушелъ, какъ вдругъ поэтъ обратился къ нему: "Ну, вотъ, Натанъ, -- я опять свелъ васъ на землю!" -- и передалъ ему заключительныя строки стихотворенія. Стр. 392. Дочь Іефѳая. "Іефѳай, незаконный сынъ Гилеада, былъ несправедливо изгнанъ имъ отцовскаго дома, бѣжалъ въ пустыню и тамъ сдѣлался предводителемъ шайки разбойниковъ. Попавъ подъ власть чужеземцевъ, его родичи вспомнили о своемъ храбромъ товарищѣ, разбойничество котораго, по ихъ понятіямъ, не представляло ничего позорнаго, какъ и ремесло пирата въ старой Греціи. Они послали за нимъ и избрали его своимъ вождемъ. Отправляясь въ походъ на аммонитянъ, Іефѳай далъ обѣтъ, если вернется съ побѣдою, принести въ жертву первое живое существо, какое будетъ имъ встрѣчено при возвращеніи на родину. Онъ одержалъ блестящую побѣду. При извѣстіи объ этомъ, его единственная дочь пришла къ нему навстрѣчу съ музыкой и пляской, привѣтствуя избавителя своего народа. Злополучный отецъ въ горести растерзалъ на себѣ одежды; но благородная дѣвушка не допустила нарушенія обѣта и только просила отпустить ее ненадолго въ горы, чтобы тамъ, подобно софокловой Антигонѣ, оплакать свою юную жизнь и безбрачную могилу. (Мильманъ). Стр. 393. "Скончалася она"".. "Предсталляя на судъ лорда Байрона музыку къ этому стихотворенію, я спросилъ: какое собственно отношеніе можетъ оно имѣть къ Св. Писанію? Байронъ, кажется, немного обидѣлся этимъ вопросомъ; минуту спустя онъ отвѣтилъ: "Каждый можетъ понимать это по-своему; едва ли кто-нибудь изъ насъ не въ состояніи представить себѣ скорбь однимъ изъ своихъ существенныхъ свойствъ: по крайней мѣрѣ, мнѣ она присуща... Ея уже нѣтъ,-- и можетъ быть, единственный слѣдъ ея существованія заключается въ томъ чувствѣ, которое я иногда испытываю въ глубинѣ души". (Натанъ). Біографы Байрона видятъ въ этомъ стихотвореніи послѣднее воспоминаніе о таинственной "Тирзѣ". Стр. 396. Саулъ. "Какого вы мнѣнія объ Аэндорской волшебницѣ?" говорилъ Байронъ въ 1823 г. въ Кефалоніи. "Я всегда считалъ этотъ разсказъ самымъ прекраснымъ и наиболѣе законченнымъ изъ всѣхъ когда-либо написанныхъ разсказовъ о волшебствѣ; и вы согласитесь съ моимъ мнѣніемъ, припомнивъ всѣ обстоятельства и дѣйствующихъ лицъ, а также важность, простоту и достоинство повѣствованія. Эта сцена выше всѣхъ разсказовъ о привидѣніяхъ, какіе мною когда-либо читаны". Стр. 400. Видѣніе Валтасара. Какой-то мальчикъ молодой Открылъ, покорный царской волѣ, Значенье тайны роковой. Огненныя слова на стѣнѣ царскаго чертога были истолкованы Даніиломъ не "мальчикомъ", а въ глубокой старости. Стр. 402. Плачъ Ирода о Маріамнѣ. "Маріамна, жена Ирода Великаго, была имъ казнена по подозрѣнію въ невѣрности. Это была женщина несравненной красоты и высокомѣрнаго ума; несчастіе ея заключалось въ томъ, что она сдѣлалась предметомъ привязанности. граничившей съ безуміемъ, со стороны человѣка, который принималъ болѣе или менѣе близкое участіе въ смерти ея дѣда, отца. брата и дяди и дважды приказывалъ убить ее въ случаѣ его собственной смерти. Образъ казненной жены долго преслѣдовалъ Ирода". (Мильманъ). Стр. 404. "У водъ вавилонскихъ". .. Байронъ переложилъ этотъ псаломъ дважды, различными размѣрами, предоставивъ Киннэрду выбрать одно изъ двухъ стихотвореній.
В апреле 1815 года в лондонских магазинах вдруг стал тысячами раскупаться сборник песен «Еврейские мелодии». Ажиотаж во многом объяснялся тем, что обложку украшало имя лорда Байрона. Именно он написал стихи на древнееврейские мотивы вместо отказавшегося от этой работы Вальтера Скотта. Все потому, что Байрон обожал Ветхий Завет.
В апреле 1815 года на прилавках книжных магазинов столицы Британской империи появился тоненький сборник песен A Selection of Hebrew Melodies , точнее, его первая часть. В ноябре того же года вышла в свет часть вторая. В промежутке, в мае, были отдельно изданы только стихи, без нот. На русский язык название сборника традиционно переводится как «Еврейские мелодии». Продавался он по шокирующе высокой цене в одну гинею (1 фунт стерлингов и 1 шиллинг), что примерно сопоставимо с современными 70 фунтами или 7000 рублями. Несмотря на цену, было куплено 10 тысяч экземпляров сборника, не считая «пиратских».
Идея сборника песен «Еврейские мелодии» родилась в голове композитора Исаака Натана. Исаак был сыном Менахема Натана (он был известен также как Менахем Мона и Менахем Монаш Поляк), хазана из Кентербери, уроженца Польши и, по его собственному уверению, незаконнорожденного сына короля Польши Станислава II. Исаак первоначально собирался стать хазаном, как отец, но потом переключился на светскую музыку. Он сочинял музыку, пел в опере, писал статьи в газету, организовывал матчи по боксу, работал в королевской нотной библиотеке и все равно постоянно нуждался в деньгах.
 Очередной попыткой разбогатеть стал его новый проект, который в 1813 году Натан описывал так: «И. Натан собирается опубликовать “Еврейские мелодии”. Всем им более 1000 лет, а некоторые из них исполнялись древними евреями еще до разрушения Храма». Разумеется, эту концепцию следует воспринимать скорее как образец грамотного маркетинга, чем как истину. Вероятно, Исаака Натана вдохновлял успех вышедших в 1806 году и завоевавших огромную популярность «Ирландских мелодий» Томаса Мура (обратите внимание на сходство названий!). Натан решил, что английская публика, с восторгом воспринявшая стихи о нелегкой судьбе ирландского народа, окажется столь же неравнодушной и к судьбе еврейского народа. Что касается музыки, то все мелодии были моложе, чем заявлено. В чем, однако, нельзя было отказать Исааку Натану, так это в том, что именно он первым познакомил широкие слои английского общества с музыкой, звучащей в синагоге. Натан хоть и не пошел по стопам отца, тем не менее остался верен иудаизму. Его жена-англичанка перед свадьбой приняла иудаизм, что для Великобритании той эпохи было гораздо более редким событием, чем крещение еврея.
Очередной попыткой разбогатеть стал его новый проект, который в 1813 году Натан описывал так: «И. Натан собирается опубликовать “Еврейские мелодии”. Всем им более 1000 лет, а некоторые из них исполнялись древними евреями еще до разрушения Храма». Разумеется, эту концепцию следует воспринимать скорее как образец грамотного маркетинга, чем как истину. Вероятно, Исаака Натана вдохновлял успех вышедших в 1806 году и завоевавших огромную популярность «Ирландских мелодий» Томаса Мура (обратите внимание на сходство названий!). Натан решил, что английская публика, с восторгом воспринявшая стихи о нелегкой судьбе ирландского народа, окажется столь же неравнодушной и к судьбе еврейского народа. Что касается музыки, то все мелодии были моложе, чем заявлено. В чем, однако, нельзя было отказать Исааку Натану, так это в том, что именно он первым познакомил широкие слои английского общества с музыкой, звучащей в синагоге. Натан хоть и не пошел по стопам отца, тем не менее остался верен иудаизму. Его жена-англичанка перед свадьбой приняла иудаизм, что для Великобритании той эпохи было гораздо более редким событием, чем крещение еврея.
К музыке нужен был текст. Натан обратился с предложением написать стихи на древнееврейские мотивы к сэру Вальтеру Скотту. И получил отказ. Тогда Натан сделал такое же предложение Байрону. И снова получил отказ. Но вскоре близкий друг Байрона банкир Дуглас Киннейрд переубедил поэта. Возможно, свою роль в согласии поэта сыграла любовь Байрона к Библии. В 1821 году он писал другу: «Я усердный читатель и почитатель этих книг; я их прочел от доски до доски, когда мне еще не было восьми лет, - т.е. я говорю о Ветхом Завете, ибо Новый Завет производил на меня впечатление заданного урока, а Ветхий доставлял только удовольствие».
 Первые стихотворения цикла «Еврейские мелодии» были написаны в конце 1814 - начале 1815 года. В сентябре 1814 года Байрон сделал предложение Аннабелле Милбенк (второе, первое было отвергнуто), в январе 1815 года они обвенчались. Многие из стихов были переписаны начисто Аннабеллой незадолго до свадьбы и сразу после нее.
Первые стихотворения цикла «Еврейские мелодии» были написаны в конце 1814 - начале 1815 года. В сентябре 1814 года Байрон сделал предложение Аннабелле Милбенк (второе, первое было отвергнуто), в январе 1815 года они обвенчались. Многие из стихов были переписаны начисто Аннабеллой незадолго до свадьбы и сразу после нее.
«Еврейские мелодии» были посвящены принцессе Шарлотте Уэльской. Планировалось, что сборник должен был открываться предисловием о роли музыки в Библии, написанным книготорговцем Робертом Хардингом Эвансом, но Киннейрд не одобрил эту идею. Зато был воплощен в жизнь очередной маркетинговый ход Натана - в качестве еще одного соавтора был указан Джон Брэм, популярный оперный певец-еврей, давший согласие использовать его имя за процент от прибыли.
Сборник открывает стихотворение She Walks in Beauty - пожалуй, самое популярное в англоязычном мире. Русскоязычному миру оно лучше всего известно в немножко вольном, но очень красивом переводе Самуила Маршака.
Она идет во всей красе -
Светла, как ночь ее страны.
Вся глубь небес и звезды все
В ее очах заключены.
 В стихотворении бесполезно искать еврейские мотивы. Байрон написал его, вернувшись 12 июня 1814 года с бала, где его поразила красота носившей траур леди Энн Беатрикс Уилмот-Хортон, вдовы губернатора Цейлона, дальней родственницы поэта. Возможно, еще до того, как встретился с Исааком Натаном - точная дата этой судьбоносной встречи неизвестна, но она случилась в середине июня. И уж точно до того, как Байрон и Натан стали сотрудничать. А вот музыка абсолютно точно еврейская - аранжировка литургического гимна «Леха доди», приветствующего наступление субботы, в двух его вариантах, наиболее популярных в лондонских синагогах того времени. Популярнейший ханукальный гимн «Маозцур», написанный в XIII столетии в Германии, легко можно распознать в музыке к песне On
Jordan
`s
В стихотворении бесполезно искать еврейские мотивы. Байрон написал его, вернувшись 12 июня 1814 года с бала, где его поразила красота носившей траур леди Энн Беатрикс Уилмот-Хортон, вдовы губернатора Цейлона, дальней родственницы поэта. Возможно, еще до того, как встретился с Исааком Натаном - точная дата этой судьбоносной встречи неизвестна, но она случилась в середине июня. И уж точно до того, как Байрон и Натан стали сотрудничать. А вот музыка абсолютно точно еврейская - аранжировка литургического гимна «Леха доди», приветствующего наступление субботы, в двух его вариантах, наиболее популярных в лондонских синагогах того времени. Популярнейший ханукальный гимн «Маозцур», написанный в XIII столетии в Германии, легко можно распознать в музыке к песне On
Jordan
`s
n>Banks
. В переводе Михайловского (до 1917 года любители русской поэзии знали большую часть «Еврейских мелодий» именно в его переводах) стихи звучат так:
У вод Иордана верблюды Аравии бродят,
Лукавому чтитель его на Синае кадит,
На кручи Синая Ваалу молиться приходят;
Ты видишь, о Боже, - и гром твой молчит!
Там, там, где на камне десница твоя начертала
Закон, где Ты тенью Своею народу сиял
И риза из пламени славу Твою прикрывала,
Тот мертв, кто б Тебя Самого увидал.
Сверкни своим взглядом разящим из тучи громовой,
Не дай попирать Твою землю свирепым врагам;
Пусть выронит меч свой из длани властитель суровый;
Доколь будет пуст и покинут Твой храм?
Мелодия читаемой на Йом-Кипур молитвы «Яале таханунейну» («Прими наши мольбы») соединилась со стихами The Harp the Monarch Minstrel Swept. Николай Иванович Гнедич сделал довольно близкий перевод этого стихотворения на русский, назвав его «Арфа Давида (подражание Байрону)»:
Разорваны струны на арфе забвенной
Царя-песнопевца, владыки народов, любимца небес!
Нет более арфы, давно освященной
Сынов иудейских потоками слез!
О, сладостны струн ее были перуны!
Рыдайте, рыдайте! На арфе Давида разорваны струны!
Микс, как сказали бы в наше время, из синагогального гимна «Игдаль» и народной английской песни стал мелодией для стихотворения The Wild Gazelle . Поэт Алексей Николаевич Плещеев перевел его так:
Газель, свободна и легка,
Бежит в горах родного края,
Из вод любого родника
В дубравах жажду утоляя.
Газели быстр и светел взгляд,
Не знает бег ее преград.
Но стан Сиона дочерей,
Что в тех горах когда-то пели,
Еще воздушней и стройней,
Быстрей глаза их глаз газели;
Их нет! Все так же кедр шумит,
А их напев уж не звучит!
…
Подобны блеклым мы листам,
Далеко бурей унесенным...
И где отцы почили, там
Не почить утомленным...
Разрушен храм. Солима трон
Врагом поруган, сокрушен!
Мелодия из праздничной службы на Песах стала музыкой к песне Oh! weep for those:
О, плачьте о тех, что у рек вавилонских рыдали,
Чей храм опустел, чья отчизна - лишь греза в печали;
О, плачьте о том, что Иудова арфа разбилась,
В обители Бога безбожных орда поселилась!
Где ноги, покрытые кровью, Израиль омоет?
Когда его снова Сионская песнь успокоит?
Когда его сердце, изнывшее в скорби и муках,
Опять возликует при этих божественных звуках?
О, племя скитальцев, народ с удрученной душою!
Когда ты уйдешь от позорной неволи к покою?
У горлиц есть гнезда, лисицу нора приютила,
У всех есть отчизна, тебе же приют - лишь могила...
(Перевод Д.И. Михайловского)
Пожалуй, больше всего повезло с «переводчиками» стихотворению Sun of the Sleepless ! Сравните сами три русских стихотворения.
Еврейская мелодия
Я видал иногда, как ночная звезда
В зеркальном заливе блестит;
Как трепещет в струях, и серебряный прах
От нее, рассыпаясь, бежит.
Но поймать ты не льстись и ловить не берись:
Обманчивы луч и волна.
Мрак тени твоей только ляжет на ней -
Отойди ж - и заблещет она.
Светлой радости так беспокойный призрак
Нас манит под хладною мглой;
Ты схватить - он шутя убежит от тебя!
Ты обманут - он вновь пред тобой.
* * *
О, солнце глаз бессонных- звездный луч,
Как слезно ты дрожишь меж дальних туч!
Сопутник мглы, блестящий страж ночной,
Как по былом тоска сходна с тобой!
Так светит нам блаженство давних лет:
Горит, а все не греет этот свет;
Подруга дум воздушная видна,
Но далеко,- ясна, но холодна.
* * *
Неспящих солнце! Грустная звезда!
Как слезно луч мерцает твой всегда!
Как темнота при нем еще темней!
Как он похож на радость прежних дней!
Так светит прошлое нам в жизненной ночи,
Но уж не греют нас бессильные лучи;
Звезда минувшего так в горе мне видна;
Видна, но далека, - светла, но холодна!
Авторы, соответственно, Михаил Юрьевич Лермонтов, Афанасий Афанасьевич Фет, граф Алексей Константинович Толстой. Правда, возникает вопрос: а, собственно, что в этих строчках еврейского? Если только не предположить, что таинственная звезда, «солнце неспящих» - на самом деле, шестиконечная звезда Давида. Чуть ли не в каждом втором стихотворении Байрона из цикла «Еврейские мелодии» не удается обнаружить еврейскую тему. Иногда она не видна с первого взгляда, но все же присутствует.
Вот, к примеру, еще одна лермонтовская «Еврейская мелодия» (из Байрона), она же My Soul is Dark :
Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес,
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез -
Они растают и прольются.
Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал - теперь она полна,
Как кубок смерти яда полный.
 Можно сразу не догадаться, но это ветхозаветный сюжет. «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, - и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1-я Царств, 16:23). В качестве музыки Исаак Натан выбрал новую аранжировку мелодии на Песах, уже использовавшуюся в Oh! weep for those.
Можно сразу не догадаться, но это ветхозаветный сюжет. «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, - и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1-я Царств, 16:23). В качестве музыки Исаак Натан выбрал новую аранжировку мелодии на Песах, уже использовавшуюся в Oh! weep for those.
Среди других сюжетов древней истории Израиля, к которым обратился Байрон, работая над циклом, - история Иова, предсмертная мольба приносимой в жертву дочери Иеффая, песнь Саула перед последней битвой с филистимлянами, пир Валтасара, плач Ирода по Мариамне, поражение Сеннахерима, разрушение Иерусалима Титом.
Незадолго до отъезда Байрона из Англии, в 1816 году, Натан прислал ему в подарок мацу и пожелал в письме, чтобы небеса всегда хранили его, как они хранили еврейский народ. Байрон принял дар и поблагодарил за добрые пожелания, выразив надежду, что маца станет ему талисманом против демона-разрушителя, и тогда даже не потребуется смазывать кровью дверные косяки.
 Больше поэт и композитор не общались. Байрон умер в 1824 году. Натан пережил его на 40 лет, успел переехать в Австралию, стал там отцом-основателем австралийской музыки и погиб в Сиднее под колесами конного трамвая маршрута № 2 (виновным в трагическом происшествии был признан погибший, но тормозным кондукторам было поставлено на вид за недостаточную внимательность). Что касается «Еврейских мелодий», то с ними все получилось наоборот - байроновские строки, обретя всемирную популярность, легко пережили два столетия, тогда как натановские мелодии довольно быстро были забыты. Даже сам Натан уже после смерти Байрона перепечатывал его стихотворения без своих нот, но с добавлением собственных воспоминаний о совместной работе с покойным. И лишь в 1988 году Фред Барвик, почетный профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и Пол Дуглас, профессор Университета штата Калифорния в Сан-Хосе выпустили новое издание «Еврейских мелодий» вместе с музыкой. Впоследствии 13 песен из цикла были записаны профессиональными музыкантами и певцами. Их можно услышать на сайте Университета штата Калифорния в Сан-Хосе.
Больше поэт и композитор не общались. Байрон умер в 1824 году. Натан пережил его на 40 лет, успел переехать в Австралию, стал там отцом-основателем австралийской музыки и погиб в Сиднее под колесами конного трамвая маршрута № 2 (виновным в трагическом происшествии был признан погибший, но тормозным кондукторам было поставлено на вид за недостаточную внимательность). Что касается «Еврейских мелодий», то с ними все получилось наоборот - байроновские строки, обретя всемирную популярность, легко пережили два столетия, тогда как натановские мелодии довольно быстро были забыты. Даже сам Натан уже после смерти Байрона перепечатывал его стихотворения без своих нот, но с добавлением собственных воспоминаний о совместной работе с покойным. И лишь в 1988 году Фред Барвик, почетный профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и Пол Дуглас, профессор Университета штата Калифорния в Сан-Хосе выпустили новое издание «Еврейских мелодий» вместе с музыкой. Впоследствии 13 песен из цикла были записаны профессиональными музыкантами и певцами. Их можно услышать на сайте Университета штата Калифорния в Сан-Хосе.
Алексей Алексеев