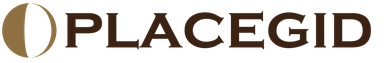Есенин С.А. Рецензия: поэма Сергея Есенина «Инония
| Пророку Иеремии 1 Не устрашуся гибели, Ни копий, не стрел дождей, - Так говорит по Библии Пророк Есенин Сергей. Время мое приспело, Не страшен мне лязг кнута. Тело, Христово тело, Выплевываю изо рта. Не хочу восприять спасения Через муки его и крест: Я иное постиг учение Прободающих вечность звезд. Я иное узрел пришествие - Где не пляшет над правдой смерть. Как овцу от поганой шерсти, я Остригу голубую твердь. Подыму свои руки к месяцу, Раскушу его, как орех. Не хочу я небес без лестницы, Не хочу, чтобы падал снег. Не хочу, чтоб умело хмуриться На озерах зари лицо. Я сегодня снесся, как курица, Золотым словесным яйцом. Я сегодня рукой упругою Готов повернуть весь мир... Грозовой расплескались вьюгою От плечей моих восемь крыл. 2 Лай колоколов над Русью грозный - Это плачут стены Кремля. Ныне на пики звездные Вздыбливаю тебя, земля! Протянусь до незримого города, Млечный прокушу покров. Даже богу я выщиплю бороду Оскалом моих зубов. Ухвачу его за гриву белую И скажу ему голосом вьюг: Я иным тебя, господи, сделаю, Чтобы зрел мой словесный луг! Проклинаю я дыхание Китежа И все лощины его дорог. Я хочу, чтоб на бездонном вытяже Мы воздвигли себе чертог. Языком вылижу на иконах я Лики мучеников и святых. Обещаю вам град Инонию, Где живет божество живых. Плачь и рыдай, Московия! Новый пришел Индикоплов. Все молитвы в твоем часослове я Проклюю моим клювом слов. Уведу твой народ от упования, Дам ему веру и мощь, Чтобы плугом он в зори ранние Распахивал с солнцем нощь. Чтобы поле его словесное Выращало ульями злак, Чтобы зерна под крышей небесною Озлащали, как пчелы, мрак. Проклинаю тебя я Радонеж, Твои пятки и все следы! Ты огня золотого залежи Разрыхлял киркою воды. Стая туч твоих, по-волчьи лающих, Словно стая злющих волков, Всех зовущих и всех дерзающих Прободала копьем клыков. Твое солнце когтистыми лапами Прокогтялось в душу, как нож. На реках вавилонских мы плакали, И кровавый мочил нас дождь. Ныне ж бури воловьим голосом Я кричу, сняв с Христа штаны: Мойте руки свои и волосы Из лоханки второй луны. Говорю вам - вы все погибнете, Всех задушит вас веры мох. По-иному над нашей выгибью Вспух незримой коровой бог. И напрасно в пещеры селятся Те, кому ненавистен рев. Все равно - он иным отелится Солнцем в наш русский кров. Все равно - он спалит телением, Что ковало реке брега. Разгвоздят мировое кипение Золотые его рога. Новый сойдет Олипий Начертать его новый лик. Говорю вам - весь воздух выпью И кометой вытяну язык. До Египта раскорячу ноги, Раскую с вас подковы мук... В оба полюса снежнорогие Вопьюся клещами рук. Коленом придавлю экватор И, под бури и вихря плач, Пополам нашу землю-матерь Разломлю, как златой калач. И в провал, отененный бездною, Чтобы мир весь слышал тот треск, Я главу свою власозвездную Просуну, как солнечный блеск. И четыре солнца из облачья, Как четыре бочки с горы, Золотые рассыпав обручи, Скатясь, всколыхнут миры. 3 И тебе говорю, Америка, Отколотая половина земли, - Страшись по морям безверия Железные пускать корабли! Не отягивай чугунной радугой Нив и гранитом - рек. Только водью свободной Ладоги Просверлит бытие человек! Не вбивай руками синими В пустошь потолок небес: Не построить шляпками гвоздиными Сияние далеких звезд. Не залить огневого брожения Лавой стальной руды. Нового вознесения Я оставлю на земле следы. Пятками с облаков свесюсь, Прокопытю тучи, как лось; Колесами солнце и месяц Надену на земную ось. Говорю тебе - не пой молебствия Проволочным твоим лучам. Не осветят они пришествия, Бегущего овцой по горам! Сыщется в тебе стрелок еще Пустить в его грудь стрелу. Словно полымя, с белой шерсти его Брызнет теплая кровь во мглу. Звездами золотые копытца Скатятся, взбороздив нощь. И опять замелькает спицами Над чулком ее черным дождь. Возгремлю я тогда колесами Солнца и луны, как гром; Как пожар, размечу волосья И лицо закрою крылом. За уши встряхну я горы, Кольями вытяну ковыль. Все тыны твои, все заборы Горстью смету, как пыль. И вспашу я черные щеки Нив твоих новой сохой; Золотой пролетит сорокой Урожай над твоей страной. Новый он сбросит жителям Крыл колосистых звон. И, как жерди златые, вытянет Солнце лучи на дол. Новые вырастут сосны На ладонях твоих полей. И, как белки, желтые весны Будут прыгать по сучьям дней. Синие забрезжут реки, Просверлив все преграды глыб. И заря, опуская веки, Будет звездных ловить в них рыб. Говорю тебе - будет время, Отплещут уста громов; Прободят голубое темя Колосья твоих хлебов. И над миром с незримой лестницы, Оглашая поля и луг, Проклевавшись из сердца месяца, Кукарекнув, взлетит петух. 4 По тучам иду, как по ниве, я, Свесясь головою вниз. Слышу плеск голубого ливня И светил тонкоклювых свист. В синих отражаюсь затонах Далеких моих озер Вижу тебя, Инония, С золотыми шапками гор. Вижу нивы твои и хаты, На крылечке старушку мать; Пальцами луч заката Старается она поймать. Прищемит его у окошка, Схватит на своем горбе, - А солнышко, словно кошка, Тянет клубок к себе. И тихо под шепот речки, Прибрежному эху в подол, Каплями незримой свечки Капает песня с гор: "Слава в вышних богу И на земле мир! Месяц синим рогом Тучи прободил. Кто-то вывел гуся Из яйца звезды - Светлого Исуса Проклевать следы. Кто-то с новой верой, Без крест и мук, Натянул на небе Радугу, как лук. Радуйся, Сионе, Проливай свой свет! Новый в небосклоне Вызрел Назарет. Новый на кобыле Едет к миру Спас. Наша вера - в силе. Наша правда - в нас!" Январь 1918 |
Примечания
Инония (с. 61).- Зн. тр., 1918, 19 (6) мая, N 205, без ст. 61-72, 101-104, 109-172 и с примечанием редакции: «Отрывки из поэмы, имеющей появиться в № 2 журнала „Наш Путь“»; журн. «Наш путь», Пг., 1918, № 2, май <фактически: 15 июня>, с. 1-8; П 18 ; сб. «Россия и Инония», Берлин, 1920, с. 69-80; П 21 ; Рж. к.; Грж.
Автограф ст. 1-2 поэмы (РГАЛИ) предварен словами: «Посвящаю З.Н.Е.», т.е. З.Н.Райх, в то время - жене поэта. Беловой автограф первоначальной редакции - РГАЛИ.
Печатается по наб. экз. (вырезка из Грж.) с исправлением в ст. 89 («Олипий» вместо «Олимпий») по большинству остальных источников. Датируется по Рж. к.
В черновике автобиографии «О себе» (1925) Есенин заметил: «В начале 1918 года я твердо почувствовал, что связь со старым миром порвана, и написал поэму «Инония»...» В.С.Чернявский, часто встречавшийся с поэтом в октябре-декабре 1917 года, вспоминал: «Про свою „Инонию“, еще никому не прочитанную и, кажется, только задуманную, он заговорил со мной однажды на улице, как о некоем реально существующем граде, и сам рассмеялся моему недоумению: „Это у меня будет такая поэма... Инония - иная страна“» (Восп., 1, 220). Беседуя с А.А.Блоком 3 января 1918 года, Есенин, судя по блоковской дневниковой записи, сказал: «Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия)» (Восп., 1, 175). Отчетливо перекликаясь со ст. 7-8 «Инонии» (отмечено И.С.Правдиной - сб. «Есенин и русская поэзия», Л., 1967, с. 127-128), данное высказывание косвенно свидетельствует о том, что работа над поэмой была начата Есениным еще до этой встречи с Блоком. Кроме того, звучащие в «Инонии» проклятия Китежу (ст. 41) и Радонежу (ст. 61) имеют не только общий характер. Они говорят также о тогдашнем размежевании Есенина с Н.А.Клюевым, для которого Китеж и Радонеж были неоспоримыми национальными духовными святынями. Одним из поводов к этому послужил выход в свет (между 14 и 20 декабря 1917 года) Ск-2 с апологетической по отношению к Клюеву статьей Иванова-Разумника «Поэты и революция»; о подробностях ситуации и сопутствующих ей обстоятельствах см.: Субботин С.И. «Есенин и Клюев: К истории творческих взаимоотношений».- «О, Русь, взмахни крылами...: Есенинский сборник. Вып. I», М., 1994, с. 104-120. Из всего этого явствует, что зарождение замысла «Инонии» приходится на последние месяцы 1917 года. К тому же и сам Есенин в Рж. к. первоначально датировал поэму не 1918-м, а 1917-м годом. В январе 1918 года она, очевидно, была завершена.
Известно, что Есенин одно время рассматривал «Инонию» как часть более широкого творческого замысла: так, в анонсе Зн. тр. (1918, 7 апреля, № 174) она именовалась отрывком из поэмы «Сотворение мира». Однако никаких более поздних сведений о произведении Есенина с таким заглавием нет.
Спустя несколько лет, пользуясь терминологией своих «Ключей Марии», Есенин попытался так истолковать образ, ставший названием его поэмы: «Образ ангелический, или изобретательный, есть воплощение движения или явления, так же как и предмета, в плоть слова. На чувстве этого образа построена вся техническая предметная изобретательность, а также и эмоциональная. <...> На образе эмоционального ангелизма держатся имена незримого и имматериального, когда они, только еще предчувствуемые, облекаются уже в одежду имени, например, чувство незримой страны „Инония“...» (статья «Быт и искусство», <1920>).
О творческом подъеме поэта на рубеже 1917-1918 годов В.С.Чернявский писал: «В дни, когда он был так творчески переполнен, „пророк Есенин Сергей“ с самой смелой органичностью переходил в его личное «я». Нечего и говорить, что его мистика не была окрашена нездоровой экзальтацией, но это все-таки было бесконечно больше, чем литература; это было без оговорок - почвенно и кровно, без оглядки - мужественно и убежденно, как все стихи Есенина» {Весь словарь его поэм ("Инонии" в первую голову) при тогдашней его фанатической вере в самодовлеющее слово-образ определяет в своих сгустках напряжение его личного темперамента. Характерны его глаголы: "не устрашусь, вздыбливаю, выплевываю, раскушу, проклюю, вылижу, вытяну, придавлю" <примеч. В.С.Чернявского >} (Восп., 1, 220). Сходное ощущение осталось от встреч с Есениным (в Москве 1918 года) и у В.П.Полонского: «...он исходил песенной силой, кружась в творческом неугомоне. В нем развязались какие-то скрепы, спадали какие-то обручи,- он уже тогда говорил о Пугачеве, из него ключом била мужицкая стихия, разбойная удаль, делавшая его похожим на древнего ушкуйника, молодца из ватаги Степана Разина. Надо было слышать его в те годы: с обезумевшим взглядом, с разметавшимся золотом волос, широко взмахивая руками, в беспамятстве восторга декламировал он свою замечательную „Инонию“, богоборческую, дерзкую, полную титанических образов,- яростный бунт против старого неба и старого бога. Он искал точку, за которую ухватиться: „Я сегодня рукой упругою / / Готов повернуть весь мир“. Это было в те годы самым сильным его ощущением» (журн. «Новый мир», М., 1926, № 1, январь, с. 154-155). Чтение Есениным «Инонии» на улицах Харькова весной 1920 года описано свидетелями - Л.И.Повицким (Восп., 2, 241) и Э.Кротким (в кн.: «С.А.Есенин: Материалы к биографии», М., 1993, с. 173, 397) - разноречиво.
«Инония» (сравнительно с другими сочинениями поэта) вызвала, пожалуй, наибольшее число откликов при его жизни - ныне их выявлено свыше пятидесяти (причем эти данные вряд ли можно рассматривать как исчерпывающие).
Уже через неделю после публикации отрывков из поэмы появились отзывы, в которых обозначились две противоположные тенденции ее трактовки. Статья И.А.Оксёнова «Слово пророка» была проникнута сочувствием к содержанию «Инонии» и к ее автору: «Не всякому дано сейчас за кровью и пылью наших (все же величайших) дней разглядеть истинный смысл всего совершающегося. И уже совсем немногие способны поведать о том, что они видят, достаточно ярко и для всех убедительно.
К последним немногим, отмеченным Божией милостью счастливцам, принадлежит молодой рязанский певец, Сергей Есенин, выросший за три года в большого народного поэта. <...>
Венцом его поэтической деятельности кажется нам поэма „Инония“ <...>. Пророчески звучит эта поэма. Небывалой уверенностью проникнуты ее строки. Головокружительно высоки ее подъемы» (Зн. бор., 1918, 26 мая, № 56; вырезка - Тетр. ГЛМ; ср. также еще один отклик И.А.Оксёнова - журн. «Жизнь железнодорожника», Пг., 1918, № 30, 15 октября, с. 8; подпись: А.Иноков).
Московский рецензент, напротив, иронизировал: «Наши молодые поэты из футуристов друг перед другом щеголяют гиперболами.
Маяковский наряжает облако в штаны. <...>
Сергей Есенин не отстает от них, наоборот, старается перегнать: „До Египта раскорячу ноги <и т.д.>“ <...>
Ну-ка, братцы, Маяковский, Каменский и прочие, чем вы теперь <...> убьете Есенина? Публика ждет очередных гипербол.
Все же развлечение» (газ. «Воскресные новости», М., 1918, 26 (13) мая, № 9; подпись: Перо; вырезка - Тетр. ГЛМ).
Чуть позже - 9 июня 1918 года - Н.И.Колоколов писал Д.Н.Семёновскому: «Есенин подвизается, кажется, в „Знамени труда“. Если не ошибаюсь, именно там появился его вопль „Господи, отелись!“ и обещание „раскорячить ноги до Египта“ или что-то в этом роде... Забавно и - очень грустно. Вот что могут сделать в год-два беззастенчивые захваливания безответственных людей, коих мы в простоте сердечной именуем критиками. Кажется, Есенин начинает подражать... Маяковскому. Нелепый опыт! Я по-своему ценю Маяковского, этого поэта-лешего, вносящего живописный хаос в парнасские сады, но видеть Есенина в роли его подражателя мне не хотелось бы. Впрочем, я все же надеюсь, что когда-нибудь Есенин вынырнет из того омута литературной дешевки, в который упал» (Письма, 318).
Скорее всего, под впечатлением от этого письма Д.Н.Семёновский вскоре так высказался в печати: «Не будем говорить о так называемых „поэтах-народниках“ из „Знамени труда“, к числу которых принадлежат: Н.Клюев, С.Есенин, П.Орешин и другие. Под величавый шаг восставших масс, под пестрый вихрь великих событий, они, подобно канатным плясунам, стремясь обратить на себя внимание, принимают неестественные позы... <...> С.Есенин воображает себя пророком: „...я по библии - пророк Есенин Сергей“ - хочет „выщипать у Бога бороду“. <...> Не об этих фиглярах от поэзии мы будем говорить» (газ. «Рабочий край», Иваново-Вознесенск, 1918, 15 июня, № 81(166); подпись: Д.С-кий).
В те же дни вышел в свет второй номер журнала «Наш путь», где «Инония» была напечатана полностью в сопровождении статьи Иванова-Разумника «Россия и Инония». Критик, продолжив начатую И.А.Оксёновым апологию поэта-пророка, в то же время использовал поэму Есенина для утверждения собственной социальной и мировоззренческой позиции:
«„Тело, Христово тело, выплевываю изо рта“,- говорит <Сергей Есенин>. И, быть может, многие увидят в последнем только голое „кощунство“, в то время как в нем - лишь разрыв с историческими формами христианства.
Нет, не с Христом борется поэт, а с тем лживым подобием его, с тем „анти-Христом“, под властной рукой которого двадцать веков росла и ширилась историческая церковь. <...>
<...> вся „Инония“ - не богохульство, а богоборчество; всякое же богоборчество есть и богоутверждение нового Слова:
Я иным тебя, Господи, сделаю,
Чтобы зрел мой словесный луг!..
Давно было сказано, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. С тех пор, однако, историческое христианство только и делало Бога живых - Богом мертвых. Оно постоянно входило в союз со всем мертвым, чтобы „прободать копьем клыков“ все живое, „всех зовущих и всех дерзающих“. И вот - в грозе и буре мирового вихря объявилась миру новая весть весны: старый мир смятется и сметется, новый мир восстанет и встанет, святое семя будет новым корнем. Пусть мертвые хоронят мертвых,-
Обещаю вам град Инонию,
Где живет Божество живых!
И в этом ином граде все будет по-иному.
<...> В христианстве страданиями одного Человека спасался мир; в Социализме грядущем - страданиями Мира спасен будет каждый человек. Старый путь отвергает новая вера: „Не хочу восприять спасения <и т.д.>“
Это говорит тот самый поэт, который в недавней поэме „Пришествие“ взывал к неведомому Богу: „Ей Господи, Царю мой! Дьяволы на руках укачали землю. Снова пришествию Его поднят крест. Снова разверзается небо... Лестница к саду твоему - без приступок“... Видел тогда поэт: „лестница к саду твоему без приступок“; знает он теперь: „не хочу я небес без лестницы... Я хочу, чтоб на бездонном вытяже мы воздвигли себе чертог“... <...>
Погибнет мир старый, родится мир новый; когда-нибудь,- верили раньше - после крови и мук придет человечество в „град чаемый“. Видит поэт его воочию: „вижу тебя, Инония, с золотыми шапками гор“... И видит он ее не потому, что в нее „когда-нибудь“ придут, на костях наших создавая себе далекое свое блаженство: это изжитая, еще Герценом опрокинутая „теория прогресса“ как цели мировой жизни. Нет, такая „Инония“ нам не нужна; ее-то и надо взорвать в первую очередь; это ее обещало когда-то христианство в своей эсхатологии. „Инония“ наша не там , а здесь , она не вне нас, она в нас самих . Но мы должны бороться за то, чтобы не осталась она только в нас...
<...> Поэмы Блока, Есенина, Белого <“Двенадцать“, „Инония“, „Христос Воскрес“> - поэмы „пророческие“, поскольку каждый подлинный „поэт“ есть „пророк“. И все истинные поэты всех времен - всегда были „пророками“ вселенской идеи своего времени, всегда через настоящее провидели в будущем Инонию » (журн. «Наш путь», Пг., 1918, № 2, май <фактически: 15 июня>, с. 144-150; выделено автором).
И.Н.Розанов обратил особое внимание на характер богоборчества Есенина: «Наиболее запросто обходится с Христом С.Есенин. У него он появляется „товарищем Иисусом“. <...> Поэты из народа пошли гораздо дальше А.Блока и А.Белого: Христос не только с нами, наш, но мы, т.е. революционный народ, и Христос - это, в сущности, только две ипостаси божества; а если „мы сами Христы“, то никакого другого и не нужно - вот итог, к которому приходит Есенин в своей последней поэме „Инония“, где он заявляет, что „тело, Христово тело выплевывает изо рта“, себя объявляет он пророком Сергеем и затем начинает бахвалиться - „даже Богу я выщиплю бороду“. В этой поэме поэт из народа, кое-что обещавший, является бледным подражанием Маяковскому» {Как бы ответом на это суждение стали слова Иванова-Разумника в статье "„Мистерия“ или „буфф“? (о футуризме)" (другое название - "„Футуризм“ и „вещь“"), написанной на рубеже 1918-1919 годов: "И не то что богоборчество Ивана Карамазова - куда там! - но и богоборчество „Инонии“ Сергея Есенина еще не по плечу Владимиру Маяковскому" (в сб. "Искусство старое и новое", Пб., 1921, с. 54; см. также журн. "Книга и революция", Пб., 1921, № 8/9, февраль-март, с. 25)} (газ. «Понедельник», М., 1918, 8 июля, № 19).
Поэма Н.А.Клюева «Медный Кит», вышедшая в свет в октябре 1918 г. в Петрограде (на обложке одноименной книги: 1919), была написана вслед «Инонии» Есенина (непосредственно упоминаемой и в самом клюевском тексте). Рисуя в «Медном Ките» собственную символическую картину происходящих в России революционных событий, во многом перекликающуюся с полотном поэмы Есенина, Клюев, тем не менее, охарактеризовал здесь «новое небо и новую землю» России в смысле, противоположном есенинскому:
То новая Русь - совладелица ада,
Где скованы дьявол и Ангел Тоски.
Несколько откликов на «Инонию» появилось после выпуска П 18 не нужен. Брось перекрашивать „под революцию“ старую негодную ветошь, брось шутовские „пророческие“ ризы, заговори простым человеческим языком» (журн. «Горн», М., 1919, № 2/3, февраль-март, с. 114-115; подпись: Ф.Р.; выделено автором; вырезка - Тетр. ГЛМ).
Отрицательное отношение к богоборчеству Есенина разделили также и другие критики. Так, О.Л.Шиманский обвинил поэта в том, что он «побивает рекорд религиозной развязности», и даже в «mania grandioza» (журн. «Свободный час», М., 1919, № 8(1), январь, с. 8; подпись: О.Леонидов; вырезка - Тетр. ГЛМ). С горечью писал об «Инонии» В.Л.Львов-Рогачевский: «„Пророк Есенин Сергей“, надо полагать, пока не страдающий манией религиозного помешательства, пытается создать на место Бога смерти божество живых <...>. С телячьей радостью поет-мычит Есенин о своем „отелившемся боге“, на радость Шершеневичам и Мариенгофам славит новое Вознесенье, нагромождает образы, один нелепее другого...» (в его кн. «Поэзия новой России: Поэты полей и городских окраин», М., 1919, с. 58).
От нарочитой образности предостерегал автора «Инонии» и Л.И.Повицкий: «...заменить их <другие средства выразительности поэтической речи> одной „образностью“ - это значит обезоружить себя, стать слабее и беспомощнее в трудной борьбе с таким могучим противником, как художественная речь. Этого не следует делать ни одному художнику, хотя бы он себя чувствовал трижды богатырем, хотя бы он мог гордо воскликнуть: „Не устрашуся гибели <и т.д.>“» (газ. «Наш голос», Харьков, 1919, 11 апреля, № 78; вырезка - Тетр. ГЛМ). В то же время Д.Н.Семёновский отнесся к образам «Инонии» вполне сочувственно: «Сергей Есенин - поэт образа. Образы в его стихах всегда выразительны, крепки, порой преувеличены. Есенин широко пользуется гиперболами. У него „сосны растут на ладонях полей“, „кто-то натянул на небе радугу, как лук“. А как изобразительны эти его строчки: „Грозовой расплескались вьюгою / / От плечей моих восемь крыл“» (газ. «Рабочий край», Иваново-Вознесенск, 1919, 21 февраля, № 41(368); подпись: Дельта; вырезка - Тетр. ГЛМ).
Спустя два года после П 18 «Инония» вышла вновь - в составе сборника «Россия и Инония» (издательство «Скифы», Берлин) - и тогда же получила заметный резонанс в печати русского зарубежья. Первый (из известных нам) по времени отклик на «скифское» издание поэмы имел явно выраженную политическую окраску, к тому же совершенно не отвечая действительности: Н.Г.Козырев объявил «Инонию» «диссертацией на получение привилегированного пайка» (газ. «Сегодня», Рига, 1921, 7 января, № 5; подпись: Ник.Бережанский). Сборником «Россия и Инония» был порожден и другой политический памфлет - статья Е.Н.Чирикова «„Инония“», в которой поэма Есенина стала материалом для демонстрации антисоветской позиции автора (газ. «Общее дело», Париж, 1921, 28 февраля, № 228).
Рецензент ревельской эсеровской газеты попытался вернуть «Инонию» (и поэмы А.Блока, А.Белого и др., тогда же переизданные в Берлине) в контекст времени, вызвавшего эти стихи к жизни: «...вся плеяда изданных „Скифами“ поэтов, во главе со своим комментатором и идеологом Ивановым-Разумником, стоит на позиции признания октябрьского переворота актом революционным, прогрессивным и обновляющим. Такова была их оценка в 17 и 18 гг. Изменилась ли она с тех пор, мы, к сожалению, не знаем, ибо более поздние произведения их в зарубежной печати до сих пор не появлялись. <...> ...поэма „Инония“ - определенное и глубокое отрицание всего старого мира, вплоть до изгнания христианских символов и замены их какими-то полуязыческими полуиндуистскими символами - вплоть до порицания национального прошлого „святой
М.О.Цетлин, также памятуя о трехлетнем сроке, прошедшем со времени создания «Инонии» до ее выпуска в Берлине, высказался следующим образом: «Поэма „Инония“ очень талантлива, очень ритмична и образна. Напрасно осмеяно в газетах столько нашумевшее мистическое „божье теление“. Те, кто знали по прежним стихам Есенина про его страстную истинно крестьянскую любовь к коровам,- не удивятся, что именно этот образ явился у поэта для символа таинственного рождения в мире нового, в данном случае - страны Инонии. Поэт, видно, искренне вспыхнул радостным ожиданием нового мира. Увы, теперь мы знаем, во что преобразилась эта крестьянская „Инония“ и что стало с ее хатами и нивами. Но ведь тогда этого еще не было видно» (журн. «Современные записки», Париж, 1921, <кн.> III, 27 февраля, с. 250-251).
На «сектантски-хлыстовскую» стихию поэмы обратили внимание П.Н.Савицкий (журн. «Русская мысль», София, 1921, кн. I/II, с. 224; подпись: Петроник), М.Л.Слоним (газ. «Воля России», Прага, 1921, 3 февраля, № 119; подпись: М.Сл.), А.С.Ященко (журн. «Русская книга», Берлин, 1921, № 3, март, с. 10).
Наиболее развернутым откликом на есенинскую поэму в тогдашней зарубежной русской печати стала статья А.Киселева «Мессианство в новой русской поэзии: „Пророк Есенин Сергей“». Ее автор, в частности, писал: «Я уверен, что большинству из читающих „Инонию“ в первый раз она не понравится. <...> Но <...> даже наиболее возмущенные, наиболее недоумевающие должны будут сделать некоторое усилие, чтобы стряхнуть с себя обаяние ее угловатой силы. <...> Кто даст себе труд внимательно прочесть „Инонию“, тот поразится ее мрачным огнем.
<...> Поэт, пришедший из темных низов, с периферии социального круга, чтобы перевернуть мир и оставить на нем следы „нового вознесения“, не мог втиснуть своей поэтической проповеди в старые, школьные, вылощенные формы. Они убили бы его вдохновение, стеснили бы его, как шнурованные башмаки стеснили бы Иеремию. <...> Характерные рубящие перебои ритма и мрачные, глухие ассонансы, шипящие и свистящие аллитерации <...>, обилие рифм, построенных на отдаленных созвучиях (гибели - библии, кионах я - Инония), диссонансы (Радонеж - залежи, погибнете - выгибью), навязчивые представления, как „прободать“ или „проклевать“, постоянные „говорю вам“ - все это дает свой своеобразный стиль, свою поэтическую манеру, дикую художественность, потрясающую, как музыка бури. Мы забываем, как Есенин грозит нам:
Пятками с облаков свесюсь (sic!),
Прокопытю души, как лось,
и готовы верить ему, когда он говорит:
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл.
<...> Обращаясь к старому миру, олицетворенному в виде Америки, технически мощной, но слабой своею бездушностью и безверием, поэт еще раз ставит русскую тему о примате религиозно-этических ценностей над ценностями материальной культуры. Эта культура несет в себе зародыши гибели, опустошения души, упирающейся в бессмысленное накопление, ибо „проволочные лучи“, которыми культура опутала землю, „не осветят пришествия“ нового Бога. <...>
Таковы пророчества Есенина. Напрасно было бы, конечно, искать в его замечательной „Инонии“ предсказаний конкретных исторических событий. Она вся вращается в сфере религиозно-социальных идей, облеченных в тяжелые символы. Исторические события развиваются, не считаясь с пророчествами. Но что мы стоим на великом переломе, что в душе нового человека назревают новые ценности, без которых „нечем жить“,- в этой основной мысли „Инонии“ ее значение, переходящее за грани текущего дня» (газ. «Путь», Гельсингфорс, 1921, 31 марта и 1 апреля, №№ 32 и 33).
В то же время Ф.В.Иванов, размышляя об особенностях лирической поэзии Есенина («Мягкий, женственный, <...>, тихой поступью монашки идет он по дороге русской литературы. <...> Пейзаж его любимый - тихий вечер, настроение - грустное раздумье...»), пришел к такой оценке поэмы:
«Неудачливость „Инонии“ - в свойстве дарования самого Есенина. От послушания - к богоборчеству. Это не его тема. Потому выкрики Есенина в „Инонии“ не действуют. <...> И Есенин чувствует свое бессилие. Поэма блещет преувеличенностью образов. Постоянное форсирование таланта. Крикнуть посильнее, чтобы скрыть свою собственную немощность. Напряженность в каждой строфе, в каждом слове <...>. И рядом маленький оазис в пустыне безнадежной революционной риторики, типичный в устах прежнего Есенина, творца „Триптиха“ и „Голубени“ <приведено начало четвертой главки „Инонии“>. <...> В „Триптихе“ - та же тема, что и в „Инонии“, но иной подход. В „Инонии“ - наигранное богоборчество. В „Триптихе“ - покорная женственная скорбь. <...> От Руси - к Инонии, от тихой веры к пафосу разрушения, от Китежа мечты родной к Китежу суровой действительности. Таков крестный путь Есенина. Опалит ли он крылья в разрушительном огне его или это новый искус таланта - покажет будущее» (газ. «Голос России», Берлин, 1921, 20 июля, № 714. Переиздано в кн. Ф.Иванова «Красный Парнас», Берлин, 1922, с. 62-66; вырезка из этой книги с вопросительными знаками на полях - Тетр. ГЛМ).
Одновременно с берлинским изданием «Инонии» в Москве вышел в свет сборник П 21 , где также содержалась поэма. Рецензируя его, П.В.Пятницкий писал, что «Инонию» «нужно считать самым значительным стихотворением» (журн. «Книга и революция», Пб., 1921, № 7, январь, с. 55; подпись: Кий).
К откликам на П 21 можно отнести также открытое письмо В.Г.Шершеневича, адресованное «в град ИНОНИЮ. Улица Индикоплова. Сергею Александровичу Есенину», где среди рассуждений о есенинской поэзии имелось и содержавшее долю яда: «Самой твоей характерной чертой является строительство нового образа, поскольку он помогает строительству нового мира, хотя бы мира несуществующего. <...> Когда не хватает образа, ты просто заменяешь словом „иной“ или „новый“ <следует целая страница из строк революционных поэм Есенина, примерно половина которых взята из „Инонии“>. И так далее, до бесконечности» (в кн. В.Шершеневича «Кому я жму руку», <М., 1921>, с. 42-44).
После выступлений поэта за границей (1922-1923 годы) и выхода в свет Грж. к уже имевшимся зарубежным отзывам об «Инонии» прибавились и другие. Эти высказывания (большей частью варьировавшие то, что было написано о поэме ранее) были сделаны И.Г.Эренбургом (в его кн. «Портреты русских поэтов», Берлин, 1922, с. 82; вырезка - Тетр. ГЛМ), Ю.В.Офросимовым (газ. «Руль», Берлин, 1922, 18 июня, № 481; вырезка - Тетр. ГЛМ), Е.С.Шевченко (газ. «За свободу!», Варшава, 1922, 4 октября, № 271; подпись: Е.Ш.), А.В.Бахрахом (газ. «Дни», Берлин, 1922, 24 декабря, № 48, а также лит. альманах «Струги», кн. 1, Берлин, 1923, с. 204; вырезка - Тетр. ГЛМ), С.Я.Алымовым (журн. «Гонг», Харбин, 1923, № 2, март, с. 22; подпись: Арум), Н.Брянчаниновым (журн. «La Nouvelle Revue», Paris, 1923, Mai 15, p. 106; подпись: N. Brian Chaninov), К.В.Мочульским (газ. «Звено», Париж, 1923, 3 сентября, № 31). В то же время появился дополнительный оттенок трактовки есенинского богоборчества. Е.В.Аничков писал: «...не случайно, что упорно, с надрывом, точно сознательно преследуя какую-то неясную цель, богохульствует Есенин. <...> В самом деле, никогда не богохульствует безразличный к вере. Зачем бы он стал? Да и вышло бы бледно, не говоря уже о том, что это не доставило бы ему никакого удовольствия. Богохульствует богоборец: богоборец же всегда носит покаяние в сердце своем. Это не решающееся высказаться покаяние богохульников и вычитываешь из бахвальства стихов...» (в его кн. «Новая русская поэзия», Берлин, 1923, с. 141-142). Чуть позже в таком же духе высказался П.Д.Жуков (журн. «Зори», Пг., 1923, № 2, 18 ноября, с. 10).
В 1924-1925 годах более или менее беглые упоминания «Инонии» содержались в работах о Есенине таких авторов, как Л.И.Повицкий (газ. «Трудовой Батум», 1924, 8 июня, № 128), И.В.Грузинов (Гост., 1924, № 1(3), с. <17>), Г.Лелевич (журн. «Октябрь», М., 1924, № 3, сентябрь-октябрь, с. 181; вырезка - Тетр. ГЛМ), А.Б.Селиханович (Бак. раб., 1924, 25 сентября, № 217; вырезка - Тетр. ГЛМ), В.Л.Львов-Рогачевский (в его кн. «Новейшая русская литература». 2-е изд., испр. и доп., М. (обл.: М.- Л.), 1924, с. 319-320), Б.Маковский (газ. «Полесская правда», Гомель, 1925, 17 мая, № 111; вырезка - Тетр. ГЛМ), И.С.Ежов (в кн.: «Русская поэзия XX века: Антология», М., 1925, с. XLVI). Лишь А.К.Воронский (в своем литературном портрете Есенина) уделил «Инонии» много внимания:
«Революция во многом все-таки преобразила поэта. Она выветрила из него затхлую, плесенную церковность: „Проклинаю я дыхание Китежа <и т.д.>“. Это - хорошо по существу: с Китежем и с часословом в эпоху социальной революции, в век сверхкапитализма и сверхимпериализма далеко не уедешь. Но старый Китеж можно подменить новым, вместо древнего часослова можно попытаться написать другой, свой. Так оно на самом деле и есть у Есенина. <...> для Есенина его рай, его „Инония“ - не метафора, не сказка, не поэтическая вольность, а ожидаемое будущее.
<...> „Инония“ представляет значительный шаг вперед, так как знаменует отход от церковности к реальному миру. <...> „Инония“ Есенина есть идеал нашего мелкого трудового собственника-крестьянина. Века крепостного, помещичьего, полицейского гнета воспитали в нем жажду покончить со старым <...>. Эта жажда лучшего, иного, несомненно, в борьбе с царизмом, с крепостничеством сыграла крупнейшую и благотворнейшую роль. Своеобразно, с мистикой, в нарочитых, имажинистских образах Есенин отразил это в своих стихах об „Инонии“, прокляв „Радонеж“ и „тело Христово“.
<...> Революция наша, безусловно, несет крестьянству избавление не только от гнета помещика и царской опричнины, но и от капитализма, но несет его совсем по-иному, чем полагал Есенин. Рабочий, руководящий революцией, уничтожая капитализм, совсем не намерен отказать в гостеприимстве железному гостю. Наоборот, его социализм - индустриальный, совсем непохожий на примитивную мужицкую „Инонию“ с сыченой брагой» (Кр. новь, 1924, № 1, январь-февраль, с. 276-279).
Спустя почти полтора года, полемизируя с А.К.Воронским, А.А.Туринцев, в частности, отмечал: «...сказав:
Я иным Тебя, Господи, сделаю,
Чтобы зрел мой цветочный луг,
неминуемо - „Проклинаю я дыхание Китежа и все лощины его дорог“, но сейчас же, сейчас же - „обещаю Вам град Инонию, где живет Божество живых“. Нет, сколько бы ни извинялся Есенин <...> за „самый щекотливый этап“ свой - религиозность, сколько бы ни просил читателя „относиться ко всем его Иисусам, Божьим Матерям и Миколам как к сказочному в поэзии“ {Цитаты из предисловия поэта (1 января 1924) к несостоявшемуся двухтомному собранию сочинений приведены здесь по очерку А.К.Воронского (Кр. новь, 1924, № 1, январь-февраль, с. 273)}, для нас ясно: весь религиозный строй души его к куцему позитивизму сведен быть не может. И после того, как одержимое требование преображения, жажда обрести немедленно же обетованную Инонию чуда не произвели - отчаяния, богоотступничества - нет. По-прежнему взыскует он нездешних „неведомых пределов“. Неизменна его религиозная устремленность, порыв к Божеству...» (журн. «Своими путями», Прага, 1925, № 6/7, май-июнь, с. 26).
С иронией изложил содержание поэмы В.А.Красильников в статье «Сергей Есенин»: «Необходима революция неба <...> - пора растрясти и всколыхнуть миры... Начать революцию следует немедленно. Задача сегодняшнего дня - свержение всех окопавшихся на небе и на земле, как-то: вылизать на иконах лики угодников и святых, снять штаны с Христа, крепко схватить за „белую гриву“ Саваофа и пр. и пр. ...Рук с угодниками не жалеть, веруя - в награду получишь град Инонию...» (ПиР, 1925, № 7, октябрь-ноябрь, с. 121). Но еще более пристрастно отнесся к «Инонии» и ее автору И.А.Бунин:
«И вот, наконец, опять „крестьянин“ Есенин, чадо будто бы самой подлинной Руси, вирши которого, по уверению некоторых критиков, совсем будто бы „хлыстовские“ и вместе с тем „скифские“ (вероятно потому, что в них опять действуют ноги, ничуть, впрочем, не свидетельствующие о новой эре, а только напоминающие очень старую пословицу о свинье, посаженной за стол):
Кометой вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиною...
Проклинаю дыхание Китежа,
Обещаю вам Инонию...
<...> Инония эта уже не совсем нова. Обещали ее и старшие братья Есенины
Поэты - пророки… Возможно, избитая фраза, но лишь потому, что пророческий дар поэтов признан всеобщей истиной. Речь, конечно же, идет не о рифмоплетах, приверженных сиюминутной литературной моде и политической конъюнктуре, а об истинных Поэтах, над чьими творениями не властно время.
Наше Агентство Русской Информации часто упрекают в том, что мы не признаем авторитетов, что мы посягаем на, казалось бы, непререкаемые ценности, к каковым, к примеру, относится Русская Православная Церковь. Да, мы не признаем косности и отрицаем то, что мешает свободному духу русской нации, но это не значит, что для нас нет высших ценностей и высших истин и что мы не признаем тех великих личностей, которые смогли к ним приобщиться. Одним из таких великих людей, сумевших познать некую тайну бытия и взаимосвязи духовного мира и мира земного и пытавшихся всеми силами передать ее своим соотечественникам, был наш гениальный национальный Поэт Сергей Есенин.
Поэзию Есенина нельзя свести к “деревенскому” жанру в его общепринятом понимании, к “березкам” и “пашням”. Это глубокая тайна, завораживающая душу любого истинно русского человека. И тайна эта тем более загадочна, что она порой скрывает будущее Руси, которое еще не открылось, но, как кажется, вот-вот откроется нам.
Одним из наиболее загадочных произведений Сергея Есенина является поэма “Инония”, родившаяся в самый переломный для России момент - в начале 1918 года. В такие тяжелые моменты истории людям с необычайными талантами и провидческими способностями Небо как будто открывает свои самые сокровенные тайны. Ведь и библейские пророки, одному из которых - Иеремии - и как бы обращена поэма Русского Пророка, оглашали свои пророчества во времена наиболее тяжелые для своего народа. В этом же ряду пророчества Иезекииля, и ныне самого почитаемого евреями пророка, которому этот дар пришёл во время начала вавилонского плена, в момент когда евреев гнали вглубь чужой страны. Но именно в этот момент пророк увидел далёкое будущее своего народа.
“Инонии” мало уделялось внимания исследователями творчества Есенина, а ее “неканоничность” обычно списывалась на революционные настроения.
Но можно ли столь удивительное творение объяснить лишь историческими обстоятельствами. Окружающая действительность лишь подталкивает пророка. Далее он идет один.
Вспоминая о времени написания “Инонии”, друзья Поэта отмечали то необычное состояние, в котором он находился. “За чайным столом, едва положив перо и не трогая еды, Сергей, страстно сосредоточенный, насупившись, читал только что написанное своим друзьям и бил кулаком по скатерти. В таком непрерывно созидающем состоянии я его раньше никогда не виде”, - писал В.С.Чернявский. Творчество невозможно объяснить рационально, тем более творчество гениального поэта. Очевидно, в тот самый момент, когда рождались строки поэмы, глазам Поэта непостижимо открывались картины грядущего, и удивительные образы этих видений он выражал на бумаге.
Трагедия любого пророка заключается в непонимании. Пронзая время, он перестает подчиняться законам современности, отрекается от омертвевших ценностей, живет новыми понятиями. Он уже перестает полностью принадлежать настоящему и входит в мир будущего, а его современники остаются позади. Поэма “Инония” не была понята при жизни поэта. Ее сочли богоборческой, но и большевики-атеисты в своем большинстве не были в состоянии постичь ее глубокий смысл. Вероятно, были и те, кто увидел в ней некую опасность для собственных планов переустройства вселенной, и это опасение, возможно, стало одним из первых шагов, приблизивших страшную ночь в “Англетере”.
“Тело, Христово тело выплевываю изо рта”, “Даже Богу я выщиплю бороду оскалом моих зубов”, - эти слова, на первый взгляд, звучат кощунственно. “Проклинаю я дыхание Китежа и все лощины его дорог”, “Проклинаю тебя я, Радонеж, твои пятки и все следы”, - Поэт как будто бы посягает на святые для русского человека понятия… Но мыслимо ли, чтобы не кто-нибудь, а СЕРГЕЙ ЕСЕНИН, выступал как противник РУССКОГО? Нет. Дело в том, что Есенин был не просто русский, но ЖИВОЙ русский человек, способный постичь жизнь нации в движении. В поэме “Инония” он вовсе не уподоблялся совдеповским атеистам, упрямо твердящим, как заклинание: “Бога нет!”, он утверждал новые, ИНЫЕ (отсюда и название поэмы) отношения человека с Богом. Есенин не против Бога, он лишь отвергает отраженную в учении христианской церкви модель взаимоотношений: человек - это раб Божий. Он говорит о грядущем новом Мессии, русском.
Действительно, в той модели мира, которую иерархи церкви столетиями утверждали на Руси, сфера божественного и мир людской были разделены мощной стеной. В этой стене существовали лишь единые ворота - ворота церкви, и церковь очень быстро приспособилась взимать дань за проход со всех ищущих истины. Вселенная раскололась. Человек, ищущий единства со всем миром, упирался в наглухо закрытые двери и оказывался в зависимости от грозных стражников, вещающих от имени Бога. Когда же эти стражники вступили в сговор с земными властителями, человеку стало невыносимо.
Церковь и государство. Вчитаемся в учение Иисуса Христа, разве был этот союз освящен Богом? Каким он возникал везде в средневековой Европе? В России же он принял столь жесткие формы, что со временем стал ненавистен. Почему атеисты в начале ХХ века имели такой успех? Только из-за косности церкви, вступивший в сговор с властью. Именно эта порочная связь принесла России столько несчастий, ведь иерархи церкви, некогда прославлявшие самодержавие, сдавливающее силы нации, во времена Совдепии пошли на сговор уже с большевиками. И мы по сей день пожинаем плоды системы, “где священник скрывает под рясой кагэбэшный погон”.
Однако, отрицая существующий в духовной сфере порядок вещей, ни в коем случае нельзя отрицать самого Бога. Есенин не атеист, он лишь бунтарь, стремящийся разрушить стену, выстроенную церковью и отделяющую человека от сферы божественного. И он Пророк, узревший в грядущем, как рушится эта стена.
“Не хочу я небес без лестницы”, - восклицает Поэт и шествует в небо сам. Друзья вспоминали, что любимыми книгами Есенина в то время, когда писал “Инонию”, били Библия и “Слово о полку Игореве”. Что между ними общее? - Это прямое общение человека с Богом. Библейским пророкам Небо само раскрывало свои тайны, а древнерусскому князю “Бог путь указывает из земли Половецкой в землю Русскую”. И глубокая древность, когда мир был един, вновь являлась взору Пророка, и он видел воссоединение божественного и человеческого.
Из поэмы видно, что Поэт отрицал также и главный тезис учения христианской церкви - спасения человеческой души:
Не хочу восприять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Что же не приемлет в учении о спасении Поэт? Возможно, зависимость человека от божественной жертвы, вечную моральную обязанность отплачивать этот долг своим послушанием, которое окончательно превращает человека в раба Божьего. А возможно, и то, что эта кабала была перенесена уже на землю - в руки церкви и государства, беззастенчиво воспользовавшихся моральным обязательством человека перед сыном Божьим.
И вот взгляд Поэта перенесен уже на земную часть расколотой надвое вселенной:
И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, -
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли.
Почему Америка? В начале прошлого века США не были той мировой сверхдержавой, которой она стала в его конце. В то же время ни слова не говориться о Европе, доминирующей в момент написания поэмы политической и идеологической арене. Но Пророк, заглядывая в будущее, не мог не увидеть образ этой новой империи, в которой мы можем узнать именно современную Америку повелевающую в мире, и в то же время утратившую связь с божественным миром. В этом отгороженном от Бога царстве искусственно все, даже “потолок небес”, вбитый руками “в пустошь”, на котором “сияние далеких звезд” заменяют “шляпки гвоздиные”. Очень яркий образ небоскрёбов, современного символа Америки, здесь важно учесть, что в момент написания поэмы поэт не был в Америке и не видел её пейзажей. Однако и крушение американской империи, которая в момент написания строк еще не успела состояться, увидел Пророк в грядущем.
Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом - рек.
Просверлит бытие человек!
Заявляет Поэт, обращаясь к Америке, и тем самым утверждает, что именно русский дух положит начало новому, единому божественно-человеческому миру:
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых!
И все же ни та Россия, которую знал с детства Есенин (“Плачь и рыдай, Московия!”), ни новая Совдепия не могли стать основой для града Инонии. Пророчество Поэта относится к более отдаленному будущему, когда и страна, и русская нация переживут духовное перерождение: “Уведу твой народ от упования, дам ему веру и мощь”. И перелом этот должен быть сопряжен с гигантскими потрясениями, начало которых и видели воочию современники Поэта.
Это плачут стены Кремля.
Ныне на пики звездные
Вздыбливаю тебя, земля!
Надо отметить, что Кремль стал олицетворением большевистской власти в России уже после 18 года. То есть речь идёт о других временах, не современных поэту.
Апокалиптические картины поэмы знаменуют лишь крушение старой вселенной, изжившей себя духовно, но источником этой великой катастрофы является не злой рок и не божественная воля, а собственный прорыв человека в новые высокие сферы.
К какому же времени можно отнести пророческие строчки есенинской поэмы? Это сказать трудно, но, как кажется, уже в современной нам действительности видны признаки приближения описанного Поэтом космического перелома. И те духовные искания, которые идут сейчас в русском народе, приближают нас к пониманию тайного смысла “Инонии”. Целостность вселенной, единство человека и божества, изначально заложенные в картину русского миропонимания, постепенно ведут к восстановлению искаженных связей внутри мира. И даже современная русская литература отражает это. Здесь можно привести хотя бы один отрывок из произведения, написанного тезкой (случайно ли?) Есенина - Сергеем Алексеевым. В его роман “Сокровища Валькирии” разговор между собой ведут американский (опять же) офицер, имеющий русские корни, которые и побуждают его к постоянным духовным исканиям, и военный доктор, узнавший откуда-то некую “тайну русской души”:
Хочешь сказать, они тоже богоизбранные, как иудеи?
Нет, сэр, богоизбранный народ на земле - иудеи. Потому они и называются - рабы Божьи. А варвары - внуки Божьи. У них родственные отношения и родственная любовь. Это совсем другое, сэр, как вы понимаете. Кто Господу ближе, раб или внук? И кому больше прощается?.. Извините, сэр, это трудно сразу осмыслить и принять, но если хотите разобраться в сути вещей, вам следует заняться русской историей. Варвары довольно подробно изложили свое древнее мироощущение и абсолютно точно знают свое место в мироздании. Они всегда мыслили себя внуками Божьими и потому до сих пор говорят Господу “ты”, как принято среди родственников.
Как видим, современный нам писатель, как и наш гениальный Поэт, вновь использует реминисценцию из “Слова о полку Игореве”, автор которого называет русичей “Даждьбожьими внуками”. Есть что-то мистическое в этом возвращении к древнейшей поэме, которая, в свою очередь, восходит к самым глубинным пластам исконного русского сознания. И автор “Слова”, и Сергей Есенин - два величайших поэта, столь близких по духу, творили накануне и во время страшных событий в жизни нашего народа. По-видимому, именно в такие моменты Небеса открывают избранным Истину. Что же ждет нас в ближайшем будущем, если идея восстановления разрушенной связи людей со Всевышним, зовущая человека встать на тяжелый путь духовного перерождения, вновь возникает в нашем сознании.
Возможно истинные русские патриоты вникнув в эти строчки почуствуют глубину и мистическую силу слов поэта-пророка о будущем России и этих, наполненных великой духовной силой слов, вполне достаточно для веры в это светлое грядущее. Ведь не количеством слов определяются контуры справедливого мира. Маркс и Энгельс написали целые сотни томов, а что сегодня в остатке......
Пророку Иеремии
Не устрашуся гибели,
Ни копий, не стрел дождей, -
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта.
Не хочу восприять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Я иное узрел пришествие -
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.
Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех.
Не хочу я небес без лестницы,
Не хочу, чтобы падал снег.
Не хочу, чтоб умело хмуриться
На озерах зари лицо.
Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом.
Я сегодня рукой упругою
Готов повернуть весь мир...
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл.
Лай колоколов над Русью грозный -
Это плачут стены Кремля.
Ныне на пики звездные
Вздыбливаю тебя, земля!
Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.
Даже богу я выщиплю бороду
Оскалом моих зубов.
Ухвачу его за гриву белую
И скажу ему голосом вьюг:
Я иным тебя, господи, сделаю,
Чтобы зрел мой словесный луг!
Проклинаю я дыхание Китежа
И все лощины его дорог.
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже
Мы воздвигли себе чертог.
Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых.
Плачь и рыдай, Московия!
Новый пришел Индикоплов.
Все молитвы в твоем часослове я
Проклюю моим клювом слов.
Уведу твой народ от упования,
Дам ему веру и мощь,
Чтобы плугом он в зори ранние
Распахивал с солнцем нощь.
Чтобы поле его словесное
Выращало ульями злак,
Чтобы зерна под крышей небесною
Озлащали, как пчелы, мрак.
Проклинаю тебя я Радонеж,
Твои пятки и все следы!
Ты огня золотого залежи
Разрыхлял киркою воды.
Стая туч твоих, по-волчьи лающих,
Словно стая злющих волков,
Всех зовущих и всех дерзающих
Прободала копьем клыков.
Твое солнце когтистыми лапами
Прокогтялось в душу, как нож.
На реках вавилонских мы плакали,
И кровавый мочил нас дождь.
Говорю вам - вы все погибнете,
Всех задушит вас веры мох.
По-иному над нашей выгибью
Вспух незримой коровой бог.
И напрасно в пещеры селятся
Те, кому ненавистен рев.
Все равно - он иным отелится
Солнцем в наш русский кров.
Все равно - он спалит телением,
Что ковало реке брега.
Разгвоздят мировое кипение
Золотые его рога.
Новый сойдет Олипий
Начертать его новый лик.
Говорю вам - весь воздух выпью
И кометой вытяну язык.
До Египта раскорячу ноги,
Раскую с вас подковы мук...
В оба полюса снежнорогие
Вопьюся клещами рук.
Коленом придавлю экватор
И, под бури и вихря плач,
Пополам нашу землю-матерь
Разломлю, как златой калач.
И в провал, отененный бездною,
Чтобы мир весь слышал тот треск,
Я главу свою власозвездную
Просуну, как солнечный блеск.
И четыре солнца из облачья,
Как четыре бочки с горы,
Золотые рассыпав обручи,
Скатясь, всколыхнут миры.
И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, -
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!
Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом - рек.
Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек!
Не вбивай руками синими
В пустошь потолок небес:
Не построить шляпками гвоздиными
Сияние далеких звезд.
Не залить огневого брожения
Лавой стальной руды.
Нового вознесения
Я оставлю на земле следы.
Пятками с облаков свесюсь,
Прокопытю тучи, как лось;
Колесами солнце и месяц
Надену на земную ось.
Говорю тебе - не пой молебствия
Проволочным твоим лучам.
Не осветят они пришествия,
Бегущего овцой по горам!
Сыщется в тебе стрелок еще
Пустить в его грудь стрелу.
Словно полымя, с белой шерсти его
Брызнет теплая кровь во мглу.
Звездами золотые копытца
Скатятся, взбороздив нощь.
И опять замелькает спицами
Над чулком ее черным дождь.
Возгремлю я тогда колесами
Солнца и луны, как гром;
Как пожар, размечу волосья
И лицо закрою крылом.
За уши встряхну я горы,
Кольями вытяну ковыль.
Все тыны твои, все заборы
Горстью смету, как пыль.
И вспашу я черные щеки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной.
Новый он сбросит жителям
Крыл колосистых звон.
И, как жерди златые, вытянет
Солнце лучи на дол.
Новые вырастут сосны
На ладонях твоих полей.
И, как белки, желтые весны
Будут прыгать по сучьям дней.
Синие забрезжут реки,
Просверлив все преграды глыб.
И заря, опуская веки,
Будет звездных ловить в них рыб.
Говорю тебе - будет время,
Отплещут уста громов;
Прободят голубое темя
Колосья твоих хлебов.
И над миром с незримой лестницы,
Оглашая поля и луг,
Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух.
По тучам иду, как по ниве, я,
Свесясь головою вниз.
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонкоклювых свист.
В синих отражаюсь затонах
Далеких моих озер
Вижу тебя, Инония,
С золотыми шапками гор.
Вижу нивы твои и хаты,
На крылечке старушку мать;
Пальцами луч заката
Старается она поймать.
Прищемит его у окошка,
Схватит на своем горбе, -
А солнышко, словно кошка,
Тянет клубок к себе.
И тихо под шепот речки,
Прибрежному эху в подол,
Каплями незримой свечки
Капает песня с гор:
"Слава в вышних богу
И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи прободил.
Кто-то вывел гуся
Из яйца звезды -
Светлого Исуса
Проклевать следы.
Кто-то с новой верой,
Без крест и мук,
Натянул на небе
Радугу, как лук.
Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне
Вызрел Назарет.
Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера - в силе.
Наша правда - в нас!"
Антихристианское произведение С. Есенина
Анна ФЁДОРОВА
Поэма «Инония», которую Есенин посвятил пророку Иеремии, начинается словами:
Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, –
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Это начало – от пророка – к пророку. Есенин ставит себя в один ряд с библейскими пророками и особенно выделяет Иеремию. За 41 год своей пророческой жизни Иеремия всюду был преследуем и гоним, зато после смерти, когда стали сбываться все его пророчества, он удостоился глубокого почитания иудеев. Наверно, именно этот факт биографии Иеремии привлек Есенина. Вокруг «мессианских», как их тогда называли, поэм Есенина, да и вообще по поводу всего его творчества велась бурная полемика, высказывались прямо противоположные точки зрения, много было отрицательных отзывов. Возможно, этим посвящением Есенин намекал, что не сразу, но его пророчества сбудутся, и он удостоится всеобщего почитания. Это почитание, действительно, произошло, но не в отношении «мессианских» поэм 1917-1918 гг. Они как раз так и остались в области споров, недоумений и разночтений. И поэма «Инония» вызвала самую большую полемику с момента своего появления, во многом благодаря обилию религиозных образов, использование которых всегда предполагает некоторую осторожность, начисто отброшенную Сергеем Есениным.
Первым доказательством этому становится очевидное обращение Есенина к пророку Иеремии как к равному, поэт сразу заявляет с вызовом о своей новой, вдруг осознанной им сакральной функции, о своем самоприсвоенном звании пророка и учителя. В первых же строках он показывает, даже подчеркивает, начиная свою поэму с этих строк, что это самозванство – не просто озорство и кабацкая удаль, но грех. Он понимает, что за этот вызов, брошенный в небеса, может последовать оттуда наказание в виде копий и стрел, несущих гибель. Под копиями и стрелами (дождя) здесь имеются в виду громы и молнии, то есть та кара небесная, которая, в русском народном сознании настигала богохульников, кощунников, святотатцев. Как в омут бросается Есенин в это святотатство, отторгая от себя самое драгоценное, что есть у христианина – Святое Причастие и веру в спасительную жертву Иисуса Христа.
Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта.
Не хочу восприять спасения
Через муки его и крест
Как сам бывший верующий человек, выросший в Церкви, общавшийся с церковными людьми, он точно знает, чтО в Церкви считают самым страшным кощунством – надругательство над Святым Причастием. Он знает, как спасаются христиане – через страдания и крест Иисуса Христа. И все это отвергает, откидывает самым яростным и определенным образом перед тем, как начать проповедовать новое учение.
Есенин, задумывая «Инонию», вспоминал Пушкина, мол, и он позволял себе богохульство, имея в виду, очевидно, ранние произведения типа «Гаврилиады», но тематически «Инония» является параллелью к «Пророку» Пушкина. И там, и там совершается преображение человека, который должен начать пророчествовать. Но отличия здесь кардинальные.
Пушкинский пророк, в отличие от есенинского, во-первых, пассивен, шестикрылый серафим мягкими касаниями и рассечением, жжением и мучением готовит его к пророческой миссии. У Есенина, напротив, мы видим не призвание, как у Пушкина («И Бога глас ко мне воззвал»), а самозванство, самосвятство.
Второе принципиальное отличие – серафим в «Пророке» А.С. Пушкина вырывает язык, грешный, празднословный, лукавый – тот язык, который занимался, как в православии говорят, «плотским мудрованием», говорил о земном, греховном, злом, пустом. Пушкинский пророк начинает свое пророческое служение, как и подобает библейским героям, очищением, отказом от мирского. Пророк Исайя повествует об этом так: «Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6:6).
Есенинский герой, с которым Есенин в первых же строчках поэмы себя отождествляет, перед тем, как возвестить свое новое учение, исторгает из себя святую, спасительную Христову мудрость – и тело Его, и учение. Он совершает прямо противоположное библейскому и пушкинскому действие, исторгает чистое и взамен этого принимает что-то иное, то есть – нечистое. Следовательно, и речи дальнейшие у такого пророка, можно с определенностью ожидать, не могут быть христианскими.
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Я иное узрел пришествие –
Где не пляшет над правдой смерть.
С. Есенин в черновике автобиографии «О себе» в 1925 г. писал: «В начале 1918 года я твердо почувствовал, что связь со старым миром порвана, и написал поэму «Инония»…» В.С. Чернявский, часто встречавшийся с поэтом в октябре-декабре 1917 года, вспоминал: «Про свою „Инонию“, еще никому не прочитанную и, кажется, только задуманную, он заговорил со мной однажды на улице, как о некоем реально существующем граде, и сам рассмеялся моему недоумению: «Это у меня будет такая поэма… Инония – иная страна» [Цит. по: Субботин… С. 343-344].
Судя по этим словам, для Есенина важным было слово «иной». И в антитезе к старому миру его можно понимать как «новый», тем более, что эти слова созвучны.
В христианском контексте слово «иной», кроме «другой», означает также «неземной», «немирской», инаковый по отношению к нашему миру, трансцендентный. Но контекст поэмы Есенина – не христианский, а антихристианский. В антитезе к христианству слово «иной» применялось в России к неправославным конфессиям – «инославные религии», «инославие», как тогда говорили, а также – к иноземным странам. Здесь «иной» означает не только нехристианский, но также и «чужой», «чуждый», «неродной», не русский и даже – вражеский. В слове «Инония» слышится отзвук старинных названий древних враждебных России или просто далеких государств – Полония, Ливония, Франкония.
Это чужое для православной России учение «прободающих вечность звезд», о котором хочет говорить Есенин, конечно же, учение коммунистическое. По видимости, оно есть учение атеистическое (вместо креста – материалистические звезды, отрицающие вечность), но для Есенина коммунизм, большевизм это пока еще – не материализм, не научный атеизм. Совершено в материалистическом духе то же самое «иное» придет позже. В 1925 году в стихотворении «Неуютная жидкая лунность…»
Мне теперь по душе иное…
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны. (1925)
А в конце 1917 г. в «Инонии» Есенин, говоря об этом «ином», нарочито нагнетает архаическую и христианскую лексику: «постиг», «прободающих», «узрел» и, наконец, «пришествие».
Не в материалистически-атеистическом, а именно в антихристианском контексте надо понимать и «иное пришествие», которое узрел Есенин – если не Христа, второе пришествие Которого описано в Евангелии, то, разумеется, Антихриста. Преображенный кощунством, отрекшийся от Христа Есенин собирается нам рассказать о каком-то новом, нехристианском учении о конце света, о какой-то другой, чужой для России эсхатологии.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.
Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех.
Не хочу я небес без лестницы,
Не хочу, чтобы падал снег.
Не хочу, чтоб умело хмуриться
На озерах зари лицо.
Он здесь отрекается от самого себя, от всего, что он любил и делал, от своего творчества. Самое страшное – святотатство – совершилось, и он в отчаянии рвет на себе рубашку – теперь ничего не хочу, ничего не надо. Любимейший им голубой цвет, мягкое, теплое, мохнатое небо, рогатый месяц-бычок, который бодал облако, золото и серебро пушистого снега, цвет зари на озере – все это живое небо, вся эта одухотворенная детскими наивными религиозными и бытовыми образами русская природа, которая вдохновляла Есенина и была главным героем его лучших произведений – все это отвергается. Все это поэт хочет остричь, «как поганую шерсть», разломать, разгрызть. С детским упрямством и ожесточением он повторяет: «не хочу», «не хочу», «не хочу» – троекратное отречение от самого себя. Не так-то просто ему было с этим расставаться, хотя он и говорил, что «твердо почувствовал, что связь со старым миром порвана».
Эти и предыдущие строки отсылают нас не только к раннему творчеству Есенина, но и (особенно – мотивы отречения, преображения, пришествия, прямые аналоги – «стрелы дождя», небесная лестница) к поэмам 1917 года, прямо предшествовавшим «Инонии»: «Октоих», «Преображение», «Пришествие». За эти поэмы Есенина многие критиковали. Приветствуя свершившуюся революцию, поэт переживал это событие в христианских образах – очень своеобразных, в которых языческое одухотворение животных соседствует с наивно-фольклорными представлениями народного православия. Идеологам революции этого было мало. «По выходе Триптиха, критики, опираясь на «Пришествие», вменили в вину Есенину религиозность: по словам П.Д.Жукова, Есенин «все еще плутает среди трех сосен отжившего православия» [журн. «Зори», Пг., 1923, № 2, 18 ноября, с. 10].
Может быть, из-за этой критики Есенин «иное узрел пришествие», то есть, увидел другой вариант, более радикальный, развития темы пришествия, чем это было в поэмах 1917 года. Как будто, послушавшись критиков, решил расстаться с русским народным православием, которое составляло весь его мир, окончательно.
Дальше, наконец, когда зловещее «преображение» Есенина закончилось, речь «иного пророка» начинается словом: «Я сегодня снесся, как курица,// Золотым словесным яйцом». Образ яйца в то время занимал внимание, то и дело возникая и в стихах, письмах, и в разговорах. «Как яйцо, нам сбросит слово // С проклевавшимся птенцом («Преображение»). «…Слово, которое не золотится, а проклевывается из сердца самого себя птенцом…» (из письма Иванову-Разумнику, конец декабря 1917 г.); «слова до́роги - только „проткнутые яйца“» [из конспективной записи разговора с Есениным 3 января 1918 г., сделанной А.Блоком: Восп., 1, 175]. И.С. Субботин считает, что «источники этой метафоры систематически представлены в «Поэтических воззрениях…»: «…народ на своем богатом метафорическом языке выразил ежедневный восход солнца – баснею о том, что эта чудесная птица <заря> каждое утро несет по золотому яйцу , блеск которого прогоняет ночную тьму…» [Аф. I, 529; выделено автором]; «Когда желают выразить мысль, что в настоящее время счастье нелегко дается, обыкновенно говорят: „Умерла та курица, что несла золотые яйца!“» [Аф. I, 530] и т.д. Среди других вероятных источников – стихотворение Н.А.Клюева – «Меня Распутиным назвали…», присланное для публикации в Петроград в октябре 1917 г. и сразу же ставшее известным Есенину…
По Заонежью бродят сказки,
Что я женат на Красоте,
Что у меня в суставе - утка,
А в утке – песня-яицо…» [Субботин, С. 335-336]
Золотое яйцо от сказочной утки как образ народного солнечного счастья, здесь, конечно, сыграл свою роль, но надо вспомнить и о других параллелях. Обратим внимание на то, как появляется это слово-яйцо – не через рот, а, очевидно, через иное отверстие. Пророк буквально рожает слово, он сам здесь становится той чудесной птицей, которая в мифах многих народов, сносит мировое яйцо, из которого появляется весь космос. Для славян такой миф реконструировал А.А. Бычков [Бычков А.А. Энциклопедия языческих богов. Мифы древних славян. М., 2001. С.16].
О том, что герой Есенина выступает здесь не только в пророческой, но и в космогонической функции, говорят и дальнейшие строчки:
Я сегодня рукой упругою
Готов повернуть весь мир…
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл.
За спиной его разрушительными стихиями (гроза и вьюга) – восемь, очевидно темных, по аналогии с грозовой тучей, крыльев, у него – «клюв слов» и оскал зубов. Чудовищная птица – не утка, не курица – снесла золотое яичко-слово об ином мире. Тело этого чудовища разрастается в нагромождении есенинских гипербол до космических масштабов, протягивается «до незримого города», до Египта, ходит по тучам, свешивается с небес, в волосах у него – то солнце, то звезды. Он может повернуть мир, выпить воздух, коленом придавить экватор, вздыбливать землю «на пики звездные», укусить Млечный путь. Он проклинает святые мечты своего народа – Китеж и Радонеж, призывает горе на сердце России – Московию, обещает выклевать молитвы в часослове, стереть лики святых и мучеников с икон, грозится самому Богу выгрызть бороду, раздеть Христа и сделать Господа «иным», то есть чужим для народа.
Снесенное им «золотое словесное яйцо» рождает вовсе не новый мир, а космическую катастрофу, хаос:
Раскую с вас подковы мук…
В оба полюса снежнорогие
Вопьюся клещами рук.
Коленом придавлю экватор
И, под бури и вихря плач,
Пополам нашу землю-матерь
Разломлю, как златой калач.
И в провал, отененный бездною,
Чтобы мир весь слышал тот треск,
Я главу свою власозвездную
Просуну, как солнечный блеск.
И четыре солнца из облачья,
Как четыре бочки с горы,
Золотые рассыпав обручи,
Скатясь, всколыхнут миры.
Здесь опять можно провести сравнение с пушкинским шестикрылым серафимом, совершавшим по воле Бога преображение пророка. Только одной деталью характеризует его Пушкин – «перстами легкими, как сон». Это – действительно светлый дух, небесное видение. А в «Инонии» – огромные размеры, руки-клещи, восемь грозовых и вьюжных крыльев, копыта на раскоряченных ногах, язык-комета – такой демонический образ в поэме Есенина сам над собой совершает преображение, сам себя призывает к пророчеству, сам из себя порождает новый космос, терзает землю, мучает людей и приветствует рождение языческого бога-тельца. Он кричит, ругается, угрожает погибелью всем, кто его не слушается: «Говорю вам, вы все погибнете», пугает их: «прокопытю души, как лось», лишает упования, обещает дать тем, кто его слушается «веру и мощь», хлеб (злак) и золото.
Чтобы плугом он в зори ранние
Распахивал с солнцем нощь.
Чтобы поле его словесное
Выращало ульями злак,
Чтобы зерна под крышей небесною
Озлащали, как пчелы, мрак.
Нагнетание звуков «з», «зл», «зор-зерн» рядом с многочисленными шипящими «ш» и «щ» придает этим обещаниям зловещий оттенок.
Из множества критиков, откликнувшихся на «Инонию», ближе всех, кажется, к пониманию ее демонической сути и грозного, саркастически-низменного пафоса подошел А.Киселев, который в своей статье «Мессианство в новой русской поэзии: „Пророк Есенин Сергей“» написал: «Я уверен, что большинству из читающих „Инонию“ в первый раз она не понравится. <…> Но <…> даже наиболее возмущенные, наиболее недоумевающие должны будут сделать некоторое усилие, чтобы стряхнуть с себя обаяние ее угловатой силы. <…> Кто даст себе труд внимательно прочесть „Инонию“, тот поразится ее мрачным огнем.<…> Характерные рубящие перебои ритма и мрачные, глухие ассонансы, шипящие и свистящие аллитерации <…>, обилие рифм, построенных на отдаленных созвучиях (гибели - библии, иконах я - Инония), диссонансы (Радонеж - залежи, погибнете - выгибью), навязчивые представления, как „прободать“ или „проклевать“, постоянные „говорю вам“ - все это дает свой своеобразный стиль, свою поэтическую манеру, дикую художественность, потрясающую, как музыка бури» [Цит. по Субботин… С. 355-356]. Но даже А. Кисилев, прочувствовав этот демонизм, неожиданно заключает: «Обращаясь к старому миру, олицетворенному в виде Америки, технически мощной, но слабой своею бездушностью и безверием, поэт еще раз ставит русскую тему о примате религиозно-этических ценностей над ценностями материальной культуры» [Там же. С. 356]. Но никогда в систему религиозно-этических ценностей русского народа не входили идеи о демоническом хаосе, пожирающем мир. Это, скорее, свойственно восточным культам, индуизму, в котором грозный Шива – разрушитель и созидатель одновременно, а также – оккультным теософским учениям конца XIX-XX веков, основатели которых нередко заигрывали и с демоническими, и с революционными силами.
В третьей части поэмы действительно неожиданно появляется Америка, возможно, как модель уже реализованного «иного», то есть, чужого, рая на Земле. Но есенинский «пророк» с яростью накидывается и на нее. Пообещав ей страшную встряску, пожары и разрушения, мрачный демон обещает и Америке урожай, почему-то гораздо больший, чем России, а потом затихает.
Конец поэмы выглядит странно. Кажется, будто Есенин устал богохульствовать, будто его демонический пророк устал угрожать, пресытившись своей яростью. Среди мусора, крови и пыли, оставшихся после Армагедона, который сам же и устроил, он откопал бледную затертую, многократно описанную картинку из детства – картинку воображаемого деревенского счастья. Вспомнил о чем-то светлом и не знает, что с этим делать – просто пристегнул к концу своей поэмы этот жалкий обрывочек…
Вижу тебя, Инония,
С золотыми шапками гор.
Вижу нивы твои и хаты,
На крылечке старушку мать;
Пальцами луч заката
Старается она поймать.
Прищемит его у окошка,
Схватит на своем горбе, –
А солнышко, словно кошка,
Тянет клубок к себе.
Там, когда «отплещут уста громов» как будто даже зазвучит молитва неизвестно к кому обращенная:
«Слава в вышних Богу
И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи прободил.
Кто-то вывел гуся
Из яйца звезды -
Светлого Исуса
Проклевать следы.
Кто-то с новой верой,
Без креста и мук,
Натянул на небе
Радугу, как лук.
Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне
Вызрел Назарет…
Библейская риторика здесь, совершенно опустошенная, повествует о непонятных самому Есенину вещах – кто-то вывел гуся, кто-то натянул на небе радугу, на пустом небе неизвестно чему радуется Сион, неизвестно из чего вызревает Назарет. Натянутый конец.
Но это – не сектантское богоискательство и не обычное для Серебряного века гуманистическое богоборчество. Это – не наивная народная мечта о новом Назарете, принявшая причудливые гипертрофированные формы, и не попытки в мистических образах символически изобразить коммунистическую утопию – соорудить рай на земле. Это – сотворение из слов мрачной демонической силы. Пророк Армагедона возвещает в «Инонии» о сбывающихся вокруг Есенина в революционном перевороте мечтах Антихриста, о его свершившемся пришествии, о приближении его торжества и царства.
Уродливое мрачное существо в поэме «Инония» действительно пророчествовало. В самом конце 1917 года, сразу после большевистского переворота, оно предсказывало все те ужасы, в которые уже в 1918 году ввергнется Россия, Православная церковь и та часть русского народа, что соблазнилась чуждым учением и захотела какого-то иного, неправославного, блаженства.
И.Н.Розанов обратил особое внимание на характер богоборчества Есенина: «Наиболее запросто обходится с Христом С.Есенин. У него он появляется „товарищем Иисусом“. <…> Поэты из народа пошли гораздо дальше А.Блока и А.Белого: Христос не только с нами, наш, но мы, т.е. революционный народ, и Христос - это, в сущности, только две ипостаси божества; а если „мы сами Христы“, то никакого другого и не нужно - вот итог, к которому приходит Есенин в своей последней поэме „Инония“» [Цит. по Субботин…. С. 351]
Но пока он хочет прозреть обновлённую жизнь - райский град Новый Назарет, впервые названный в стихотворении «Тучи с ожереба…» (1916), а затем утверждённый в «Певущем зове» (апрель 1917), восславленный как символ обновляющейся жизни. Надежда на земное обновление и счастье соединяется с евангельским видением мира. Облик будущего навязывается как рай на земле. Новый Назарет - одна из наивных форм обыденных для той поры хилиастических мечтаний. И, кажется, искусственно сконструированный образ. Скоро образ Нового Назарета преобразуется в идею Инонии, в стилизацию под народную утопию в кощунственно-богоборческом толковании. [Дунаев М. Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв . С. 180]
Святитель Василий Великий в «Ибо привычка к словам негодным служит некоторым путем и к делам. Посему со всяким охранением надобно оберегать душу, чтобы, находя удовольствие в словах, незаметно не принять чего-нибудь худого, как иные с медом глотают ядовитые вещества». Поэзия Сергея Есенина часто есть именно «удовольствие в словах». Ни авторитет имени, ни популярность поэта и его стихов не могут свидетельствовать о том, что именно вот в этом произведении не скрывается «яд с мёдом». Сказанное относится не только к творчеству С. Есенина, но и к стихам А. Фета, Ф. Тютчева, О. Мандельштама…
В те годы, когда протоиерей Иоанн Ильич Сергиев был уже всенародно известен, а в кронштадтский Андреевский собор к нему на литургию ежедневно уже съезжались тысячи людей со всей России, произошел один вопиющий случай. Во время службы на амвон поднялся некий студент и прикурил (sic!) от лампады на иконостасе. Отец Иоанн в это время уже вышел с чашей для причащения. Он в недоумении посмотрел на молодого человека и с гневом спросил: «Что ты делаешь?» В ответ молодой человек не покраснел, не застыдился и не вышел поспешно из храма. Он подошел к отцу Иоанну и резко, наотмашь ударил его по лицу рукой. От удара отец Иоанн сильно качнулся. Евхаристические Дары расплескались из чаши на пол, и потом пришлось вынимать несколько плит из амвона, чтобы утопить их в Балтийском море. До революции оставалось совсем недолго.
Студент тогда, к сожалению, ушел из храма на своих ногах и не был разодран на части возмущенными людьми, собравшимися для молитвы, чего он был, несомненно, достоин. Говорю это с полной ответственностью за каждое слово, ничуть не сгущая красок: если бы народ действовал в подобных случаях более жестко и адекватно, наглость шакалов уменьшалась бы на глазах. Говорю это также и с точки зрения последующей истории, которая для нас уже является прошедшей, а тогда лишь предчувствовалась и неясно различалась. Недалеко были уже времена неслыханного поругания веры, но прежде, нежели душить попов епитрахилью или «причащать» раскаленным оловом, нужно было кому-то начать с дерзкого глумления над Церковью, таинствами и служителями.
Древний Змей выползал из-под земли, и его отравленное дыхание рисовало многим миражи близкого всемирного счастья. Во имя будущего нужно было прощаться с прошлым. Кощунство – одна их форм подобного прощания. Достоевский в «Дневнике писателя» описывает случай, когда простой мужик на спор вынес за щекой из храма Причастие, чтобы выстрелить в Святые Дары из ружья (!). Было дело, Есенин выплюнул (!) Святое Причастие, в чем бахвалился перед Блоком. Вроде бы в том же замечен был в гимназические годы будущий любимец Ленина – Бухарин. Многие, имже несть числа, срывали затем с себя нательные кресты с радостью, и если бы можно было, то согласились бы смыть с себя и крещение какой-нибудь жертвенной кровью, как это хотел сделать Юлиан Отступник. Нужно понять, что в канун революции большие массы народа натуральным образом бесновались, дав место в своем сердце врагу. И у одних это беснование было облачено в гражданский пафос, а у других – в оправдательные речи для этого пафоса. Диавол был закономерно неблагодарен со временем и к тем, и к другим, пожрав с костями и строителей «нового мира», и разрушителей «старого», и любителей придумывать одобрительные аргументы для тех и других.
Но кем был в своих собственных глазах упомянутый студент? Хулиганом? Кощунником? Нет, что вы! В своих глазах он был героем и выразителем социального протеста. Какие-то поверхностные брошюры помогли ему сформировать жалкое мировоззрение. «Вы мне ответите за инквизицию, за Джордано Бруно и за гибель цивилизации ацтеков», – возможно, бормотал он, вынашивая планы, как отомстить Церкви. Должен же что-то гневное бормотать про себя глупый человек в свои прыщавые годы, когда бес уже вселился в него и тащит на свои дела. Ведь и сегодня, в период всеобщей грамотности, люди бормочут подобную ахинею.
Студент, вероятно, крепко веровал, но не в Воскресение Христово, а в торжество прогресса и в гуманизм. Ради одной веры он оскорблял другую, всюду заметную, но сердцем не усвоенную. Он оскорблял эту веру, стремясь приблизить ее конец.
Тогда он ушел из храма на своих ногах, и, что было с ним после, мы доподлинно не знаем. Но мы хорошо знаем, что было в общих чертах с этими многочисленными «бледными юношами со взором горящим». Тот, кто вошел в храм с целью ударить священника, вряд ли проживет затем всю жизнь в «благочестии и чистоте». Его неизбежно окрылит сошедшая с рук безбожная выходка, и в глазах многих он станет смельчаком, презирающим ветхие устои. Что запретит ему бросать бомбы в жандармов, или строчить антиправительственные листовки по ночам, или точить топор, как новый Раскольников? Что запретит ему окунуться в вихрь борьбы с самодержавием, ища то ли счастья для миллионов, то ли большей, хотя и минутной, славы себе? И если он дожил до Февраля, то со слезами радости и с визгом, свойственным всем взвинченным натурам, он приветствовал отречение императора. Потом был Октябрь, и если он не был среди большевиков Троцкого-Ленина, то мог оказаться среди тоже радикальных и любивших пострелять эсеров.
Кто убил его, оставшегося в живых тогда, в Андреевском соборе? Ведь наверняка кто-то убил его в том сумасшедшем XX столетии, когда самые невинные люди редко удостаивались смерти в собственной постели? Да кто угодно. Пуля белых в гражданскую. Пуля красного палача в застенках «красного террора». Та же пуля того же палача, только позже, когда «социализм уже был построен». А может – голод и цинга на стройке века или нож уркагана – на той же стройке. А может, он сам залез в петлю, видя, как не похоже то, за что он боролся, на то, что подобные ему бесноватые люди (не без его участия) построили. В этом случае он сэкономил для Родины пулю, хотя никто за это спасибо ему не сказал.
Но перенесемся на время опять в Андреевский собор Кронштадта. Еще не было бунта на Императорском флоте. Еще не было мятежа, для подавления которого Тухачевский сотоварищи побегут по льду в атаку при поддержке артиллерии. Гумилев еще не расстрелян. Еще на троне – последние Романовы, а в храме чудотворно служит Всероссийский пастырь Иоанн Ильич Сергиев. Вот какой-то мерзавец поднимается на амвон и прикуривает от лампады над местной иконой папиросу…
Завтра почтеннейшая публика, хихикая, прочтет об этом событии заметку в свежих номерах либеральной прессы.